Tilda Publishing
Алла Гербер: «Я не чувствовала, что иду на какие-то компромиссы!»
Главе фонда «Холокост», журналистке, кинокритику Алле Гербер исполняется в этом январе девяносто лет. Редакция «Букника», «Букник.Плюс», «12–13» и Российский еврейский конгресс поздравляют Аллу Ефремовну с юбилеем и впервые публикуют огромное интервью, которое семь лет назад взял у нее Сергей Кузнецов.
Я знаю Аллу Гербер с раннего детства и во время родительских застолий слышал от нее множество разных историй и баек. Тогда она была единственным публичным человеком, которого я знал, но я слушал ее, затаив дыхание, не только поэтому — Алла Гербер всегда была прекрасной рассказчицей, и к тому же ей действительно было что рассказать. Я хорошо запомнил многое из того, что она говорила, и, думаю, из этих рассказов во многом выросла моя любовь к шестидесятым: я видел ее как образцовую шестидесятницу, которая дружила с Аксеновым и Войновичем, знала Бродского и приносила почитать «Ожог» и «Остров Крым».
Потом случилась перестройка, и в результате Алла Гербер стала главой фонда «Холокост», депутатом Госдумы, членом Общественной палаты России и т. д. При попытке набрать «Алла Гербер» Гугл любезно подставляет «a Russian politician».
Уже много лет мне жаль, что эти новые роли, которые она взяла на себя, затмили в общественном сознании ту «Аллочку», которую я знал когда-то. Семь лет назад, зимой 2014–2015 года, я провел с ней не то шесть, не то восемь часов, разговаривая о ее жизни и по мере сил стараясь заставить ее рассказать те истории, которые я помнил с детства. На то, чтобы этот разговор стал интервью, ушло много лет — но зато теперь я могу преподнести его как подарок к юбилею, как и положено, пожелав имениннице жить счастливой и здоровой до ста двадцати лет!
Сегодня мы публикуем первую часть интервью, в которой Алла Гербер рассказывает, как была устроена работа фрилансера в семидесятые, как ее и ее товарищей выгоняли из разных советских редакций, как строились отношения людей андеграунда и тех, кто официально работал в медиа, а также о том, как будущий гонитель «Метрополя» Феликс Кузнецов побывал героем и жертвой репрессий.
Потом случилась перестройка, и в результате Алла Гербер стала главой фонда «Холокост», депутатом Госдумы, членом Общественной палаты России и т. д. При попытке набрать «Алла Гербер» Гугл любезно подставляет «a Russian politician».
Уже много лет мне жаль, что эти новые роли, которые она взяла на себя, затмили в общественном сознании ту «Аллочку», которую я знал когда-то. Семь лет назад, зимой 2014–2015 года, я провел с ней не то шесть, не то восемь часов, разговаривая о ее жизни и по мере сил стараясь заставить ее рассказать те истории, которые я помнил с детства. На то, чтобы этот разговор стал интервью, ушло много лет — но зато теперь я могу преподнести его как подарок к юбилею, как и положено, пожелав имениннице жить счастливой и здоровой до ста двадцати лет!
Сегодня мы публикуем первую часть интервью, в которой Алла Гербер рассказывает, как была устроена работа фрилансера в семидесятые, как ее и ее товарищей выгоняли из разных советских редакций, как строились отношения людей андеграунда и тех, кто официально работал в медиа, а также о том, как будущий гонитель «Метрополя» Феликс Кузнецов побывал героем и жертвой репрессий.
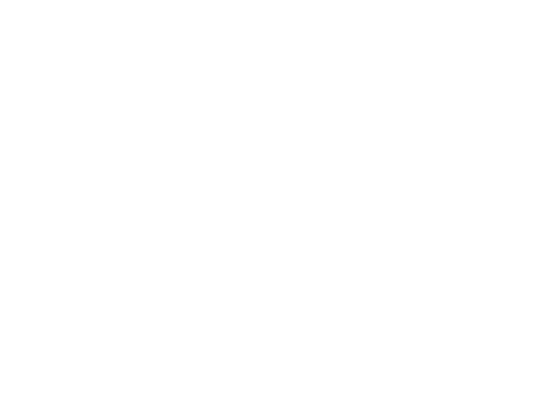
Сергей Кузнецов: Алла Ефремовна, меня давно интересует то, как в советское время существовали какие-то островки независимой, достаточно свободной жизни. Как они взаимодействовали с государством, как функционировали экономически, чем люди платили за свою относительную независимость. Довольно хорошо описано, как жили диссиденты и люди андеграунда, но, говоря с Вами, мне хотелось бы обсудить судьбу людей, сохранявших какие-то менее враждебные отношения с государством, например, советских подцензурных журналистов. Не скрою, что этот вопрос — как, сотрудничая с государственными СМИ, сохранить себя, сохранить верность своим принципам — волнует последние годы многих наших коллег. И мне кажется, опыт Вашего поколения может быть здесь интересен — хотя бы как объект анализа и рефлексии.
Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как складывалась Ваша журналистская жизнь. Давайте начнем с самого начала. Как Вы стали журналисткой?
Алла Гербер: Мне очень повезло. Я поступила в юридический институт до того, как его влили в университет. Евреев в университет не принимали, а в этот институт принимали всех. И там были феноменальные ребята, которые потом стали цветом нашей журналистики. И Ваксберг, и Аграновский, и Левиков, и много других. Это были потрясающие ребята уникального ума и остроумия. Я была еще на первом или втором курсе, когда они где-то на чердаке, под самой крышей, стали делать газету «Советский юрист», и мы там просиживали денно и нощно. То есть мне жутко повезло, что я попала в их команду. Я писала в эту газету, с этого, собственно, все и началось.
А вот потом, уже на четвертом курсе, я пошла в «Вечернюю Москву», постучала в отдел информации и сказала, что вот, я с юридического, очень хочу писать, у меня уже много статей. «А где ваши статьи?» Я говорю: «В нашей стенгазете».
Поэтому сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как складывалась Ваша журналистская жизнь. Давайте начнем с самого начала. Как Вы стали журналисткой?
Алла Гербер: Мне очень повезло. Я поступила в юридический институт до того, как его влили в университет. Евреев в университет не принимали, а в этот институт принимали всех. И там были феноменальные ребята, которые потом стали цветом нашей журналистики. И Ваксберг, и Аграновский, и Левиков, и много других. Это были потрясающие ребята уникального ума и остроумия. Я была еще на первом или втором курсе, когда они где-то на чердаке, под самой крышей, стали делать газету «Советский юрист», и мы там просиживали денно и нощно. То есть мне жутко повезло, что я попала в их команду. Я писала в эту газету, с этого, собственно, все и началось.
А вот потом, уже на четвертом курсе, я пошла в «Вечернюю Москву», постучала в отдел информации и сказала, что вот, я с юридического, очень хочу писать, у меня уже много статей. «А где ваши статьи?» Я говорю: «В нашей стенгазете».
С. К.: В стенгазете?
А. Г.: Да, в стенгазете. «Советский юрист» — это была стенгазета. Мне, конечно, ответили: «Не знаем такой газеты», а я: «И очень жаль! У нас там замечательные ребята, талантливые, и мы все хорошо пишем». Ну, мне дали какое-то первое задание на пять строчек, с этого все началось. А потом, в том же здании, я пошла в «Московский комсомолец», все-таки это мне было ближе по возрасту, и уже там познакомилась с потрясающим человеком Борисом Иоффе, заведующим отделом культуры. Опять же, я просто пришла — «Здравствуйте, я ваша тетя». У меня никаких связей, мама — учительница, папа только вернулся из лагеря.
С. К.: А Вы не помните, какое было Ваше первое задание?
А. Г.: О, первое задание было фантастическое! Меня послали в какое-то общежитие женское, чтобы я провела там беседу о любви, нет, не о любви даже, а о семейной жизни! А у меня с любовью все было очень-очень… далеко, не говоря уже о семье. Я танцевала, курила и выпивала, но при этом была такая… консервативная девушка. «Умру, но не дам поцелуя без любви», причем не потому, что мне кто-то это внушал. Я и замуж потом вышла по любви и будучи девушкой, ну, вот как положено было в те времена. Смешно, но это так. И вот, я приехала к этим девочкам, а они меня все спрашивали «Как быть, если он изменяет? Как быть, если он не может?» Я была, наверно, младше их всех, а они меня все спрашивали, как быть, какими способами и так далее. Вот такое было мое первое редакционное задание.
А. Г.: Да, в стенгазете. «Советский юрист» — это была стенгазета. Мне, конечно, ответили: «Не знаем такой газеты», а я: «И очень жаль! У нас там замечательные ребята, талантливые, и мы все хорошо пишем». Ну, мне дали какое-то первое задание на пять строчек, с этого все началось. А потом, в том же здании, я пошла в «Московский комсомолец», все-таки это мне было ближе по возрасту, и уже там познакомилась с потрясающим человеком Борисом Иоффе, заведующим отделом культуры. Опять же, я просто пришла — «Здравствуйте, я ваша тетя». У меня никаких связей, мама — учительница, папа только вернулся из лагеря.
С. К.: А Вы не помните, какое было Ваше первое задание?
А. Г.: О, первое задание было фантастическое! Меня послали в какое-то общежитие женское, чтобы я провела там беседу о любви, нет, не о любви даже, а о семейной жизни! А у меня с любовью все было очень-очень… далеко, не говоря уже о семье. Я танцевала, курила и выпивала, но при этом была такая… консервативная девушка. «Умру, но не дам поцелуя без любви», причем не потому, что мне кто-то это внушал. Я и замуж потом вышла по любви и будучи девушкой, ну, вот как положено было в те времена. Смешно, но это так. И вот, я приехала к этим девочкам, а они меня все спрашивали «Как быть, если он изменяет? Как быть, если он не может?» Я была, наверно, младше их всех, а они меня все спрашивали, как быть, какими способами и так далее. Вот такое было мое первое редакционное задание.
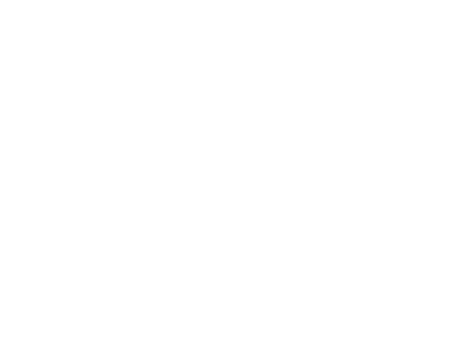
С. К.: А как Вы попали в «Юность»?
А. Г.: Я прижилась в «Московском комсомольце», еще будучи студенткой юридического. А потом все куда-то разбежались, вся наша компания. Многие стали журналистами, а я все ходила в этот «Московский комсомолец», причем в штат меня не брали, я была внештатным корреспондентом. Я там и фельетоны уже писала. Один, как сейчас помню, назывался «Эстет во хмелю». Что это был за фельетон, я не помню, но какой-то противный, наверное, судя по названию… Но тут мой любимый дядя, который, кстати, просидел с 41-го по 56-й, попал в больницу, и там его соседом по палате оказался Илья Зверев, очень популярный в то время писатель. И дядя сказал, что у него такая замечательная, потрясающая племянница, такая талантливая, такая удивительная. И Зверев сказал: «Ну, пусть покажет, что она пишет». Я принесла ему все свои глупости из «Московского комсомольца», он прочел, сказал «говна-пирога», но позвонил Катаеву в «Юность». Я туда пошла, и Валентин Катаев отправил меня в Донбасс на свободный поиск.
Я в это время родила и как раз кормила своего Сашку. Уже двенадцать месяцев кормила, поэтому решила, что хватит, пора работать, перевязала себя полотенцем и поехала. Сижу я в поезде, а напротив какой-то интересный дядька смотрит на меня и говорит: «А что такое, почему у вас тут все мокрое?» Я говорю: «Это молоко». «Как молоко?» «Ну так, молоко. Понимаете, я в командировку еду, а еще должна кормить». «Так кормила бы, — говорит, — что ж это такое, какая командировка? Ты что, у тебя ребенок, смотри, сколько у тебя молока!» Вот так я с этим молоком на грудях и приехала в Донбасс. Там спускалась в шахты, изучала жизнь шахтеров, пришла в ужас от этой нищеты, бедности, от условий, в которых они живут, от страшной черной столовой, от неустроенных бытовок. Все это я написала и принесла Катаеву. Первая такая серьезная статья после глупостей в «Московском комсомольце». Прихожу на следующий день, а Катаев говорит: «Очень хорошо. (Пауза) Для „Нью-Йорк Таймс‟», — и кладет эту статью в ящик. А через пару месяцев он ушел из «Юности», но, когда уходил, сказал Борису Полевому, новому главреду, что есть такая девочка, Алла Гербер, давай бери ее, пущай в дело. Так я стала работать в «Юности», году в 61–62-м, и моя первая статья была «Пусть загораются огоньки», такое комсомольско-пионерское название.
С. К.: Про что она была?
А. Г.: Про молодежный клуб «Факел» в Харитоньевском переулке, который мы создали, про клуб любителей джаза на Петроградской стороне в Ленинграде, про кафе «Юность» в Рижском районе. Там, конечно, не было никаких попоек, никакого разврата, никаких наркотиков. Пили легкие коктейли и слушали музыку. Приходил Козлов, в смысле «Козел на саксе», как писал о нем Василий Аксенов, и собиралась вся Москва. Там был джаз! А в те времена еще с джазом боролись, и у Васи Аксенова в «Ожоге» все это описано, и описано, как Козел играет на саксе, а народ вдруг уходит, испугавшись. Я не помню, что там произошло, но народ попер из зала, а Козел кричал: «Пипл, вернитесь! Пипл, куда же вы?»
А. Г.: Я прижилась в «Московском комсомольце», еще будучи студенткой юридического. А потом все куда-то разбежались, вся наша компания. Многие стали журналистами, а я все ходила в этот «Московский комсомолец», причем в штат меня не брали, я была внештатным корреспондентом. Я там и фельетоны уже писала. Один, как сейчас помню, назывался «Эстет во хмелю». Что это был за фельетон, я не помню, но какой-то противный, наверное, судя по названию… Но тут мой любимый дядя, который, кстати, просидел с 41-го по 56-й, попал в больницу, и там его соседом по палате оказался Илья Зверев, очень популярный в то время писатель. И дядя сказал, что у него такая замечательная, потрясающая племянница, такая талантливая, такая удивительная. И Зверев сказал: «Ну, пусть покажет, что она пишет». Я принесла ему все свои глупости из «Московского комсомольца», он прочел, сказал «говна-пирога», но позвонил Катаеву в «Юность». Я туда пошла, и Валентин Катаев отправил меня в Донбасс на свободный поиск.
Я в это время родила и как раз кормила своего Сашку. Уже двенадцать месяцев кормила, поэтому решила, что хватит, пора работать, перевязала себя полотенцем и поехала. Сижу я в поезде, а напротив какой-то интересный дядька смотрит на меня и говорит: «А что такое, почему у вас тут все мокрое?» Я говорю: «Это молоко». «Как молоко?» «Ну так, молоко. Понимаете, я в командировку еду, а еще должна кормить». «Так кормила бы, — говорит, — что ж это такое, какая командировка? Ты что, у тебя ребенок, смотри, сколько у тебя молока!» Вот так я с этим молоком на грудях и приехала в Донбасс. Там спускалась в шахты, изучала жизнь шахтеров, пришла в ужас от этой нищеты, бедности, от условий, в которых они живут, от страшной черной столовой, от неустроенных бытовок. Все это я написала и принесла Катаеву. Первая такая серьезная статья после глупостей в «Московском комсомольце». Прихожу на следующий день, а Катаев говорит: «Очень хорошо. (Пауза) Для „Нью-Йорк Таймс‟», — и кладет эту статью в ящик. А через пару месяцев он ушел из «Юности», но, когда уходил, сказал Борису Полевому, новому главреду, что есть такая девочка, Алла Гербер, давай бери ее, пущай в дело. Так я стала работать в «Юности», году в 61–62-м, и моя первая статья была «Пусть загораются огоньки», такое комсомольско-пионерское название.
С. К.: Про что она была?
А. Г.: Про молодежный клуб «Факел» в Харитоньевском переулке, который мы создали, про клуб любителей джаза на Петроградской стороне в Ленинграде, про кафе «Юность» в Рижском районе. Там, конечно, не было никаких попоек, никакого разврата, никаких наркотиков. Пили легкие коктейли и слушали музыку. Приходил Козлов, в смысле «Козел на саксе», как писал о нем Василий Аксенов, и собиралась вся Москва. Там был джаз! А в те времена еще с джазом боролись, и у Васи Аксенова в «Ожоге» все это описано, и описано, как Козел играет на саксе, а народ вдруг уходит, испугавшись. Я не помню, что там произошло, но народ попер из зала, а Козел кричал: «Пипл, вернитесь! Пипл, куда же вы?»
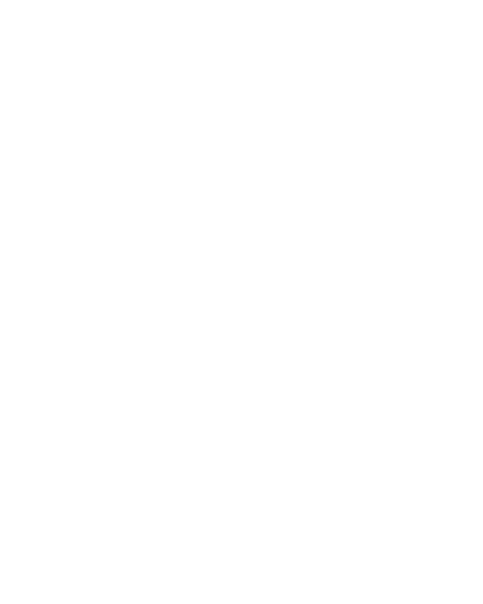
С. К.: Что нужно было сделать, чтобы в начале шестидесятых открыть молодежный клуб или кафе?
А. Г.: Естественно, для этого нужно было идти в горком комсомола и договариваться. Мы ходили, обивали пороги, чтобы получить это разрешение, Леня Седов и еще один парень из архитектурного, безумного темперамента, сил и энергии… и мы в результате получили разрешение на то, чтобы сделать «Факел» в Доме слепых. Нам отдавали в неделю два-три вечера по договоренности с дирекцией этого Дома. Это же было государственное кафе, как и все тогда, но наши вечера были большим событием, подобного больше нигде не было. «Факел» закрыли очень быстро. Очень быстро, наверное, через полгода, а может быть, даже меньше.
С. К.: Мне очень интересна эта тема — как возникали и исчезали всякие формальные и неформальные объединения людей. Вот закрыли «Факел»…
А. Г.: На самом деле было много таких историй. Например, «Литературка», я там печаталась, когда произошла вся эта история с «Бабьим яром». Заведующим отделом был такой Феликс Кузнецов, в будущем абсолютно служивый человек, а тогда его называли «наш простой советский шестидесятник». И вот в отсутствие главного редактора Феликс взял и напечатал стихотворение Евтушенко «Бабий яр», — и на следующий день его сняли.
С. К.: Это тот самый Феликс Кузнецов, который гонитель «Метрополя» и…
А. Г.: Да, который потом сделался главой Московской писательской организации и стал жуткое говно. А тогда был «наш простой советский шестидесятник», это надо не забывать. Никто не вспоминает, что его уволили за «Бабий яр», что в один день он оказался на улице, представляешь? Это было крупнейшее событие по тем временам. Мы собрались потом, я помню, на следующий день в «Литературке», был шум, ор, все обсуждали, что теперь будет, закроют «Литературку» или нет, и вообще какой Феликс молодец… на руках его носили.
С. К.: А никому не приходило в голову сделать что-нибудь в поддержку уволенного товарища? Уволиться, как вся редакция Ленты.ру весной прошлого [2014] года? Это было невозможно в Ваше время?
А. Г.: Нет. Честно, нет. Мы все только сидели, говорили. Мы собрались. Это максимум, на что мы были способны. Одиночные пикеты были внутри нас.
Но потом вот интересно. Феликс довольно быстро устроился на радио заместителем главного редактора литдрамвещания, а главным редактором был внебрачный сын Сталина, очень, кстати, приличный человек. И он взял Феликса на работу, а Феликс взял меня корреспондентом. Была такая передача «Письмо зовет в дорогу». И вот там впервые мы стали делать такую импровизацию без печатного текста, без предварительного согласования. Это было событие по тем временам. Но в конце концов меня таки оттуда выгнали. Я сделала передачу «Начинающие менестрели», о Юлике Киме и Юрии Ковале, они тогда пели вместе. Я их позвала на радио, где мы записали передачу, которая так и не вышла. И меня после этого было приказано больше на радио не пускать. Вскорости и Феликс оттуда ушел, а дальше его жизнь пошла иначе, он сделал другой выбор, мы с ним разошлись, хотя он всегда говорил мне, как он меня любит и какая я единственная и неповторимая. Помню, он звал меня на свой день рождения, какой-то у него был юбилей, кажется, пятидесятилетие. Там много народу было, Андрей Тарковский, Тимур Гайдар, вообще масса замечательных людей, которые когда-то пили с Феликсом, в те времена, когда он был наш простой советский шестидесятник, а потом… Короче, меня вытурили с радио, и я стала писать очень много в «Литературке», «Юности», «Комсомолке», «Московском комсомольце» — везде.
С. К.: Но Вы были, говоря современным языком, фрилансером?
А. Г.: Да, я очень долго нигде не была в штате, почти до самого конца шестидесятых, то есть годы моей самой активной журналистской жизни… Я бесконечно моталась в командировки. «Письмо зовет в дорогу» так и осталось моим девизом. Я могла утром прилететь, а вечером улететь. Откуда только силы были, не понимаю.
С. К.: А вот мне интересно, как это было устроено в Советском Союзе. Вот вы внештатные авторы: вам оплачивали гостиницы, билеты, вот все это?
А. Г.: Конечно. О, эти гостиницы…
С. К.: Но был ведь риск, что написанный текст напечатать будет нельзя — либо будет плохо написан, либо идеологически невозможен? То есть газета рисковала, тратила деньги и могла при этом не получить ничего?
А. Г.: Да, именно так. Но я должна сказать, что, хотя я ни разу не пошла против своих убеждений и совести, ни разу не написала ни одной передовицы и прочего партийного трали-вали, я почти не помню, чтобы меня не напечатали. Я писала очень острые статьи и в «Литературке», и в «Юности». Каким-то образом мы умели как-то лавировать, и в строчках, и между строчек нести свое главное, ради чего работали. Я была идейным человеком в хорошем смысле этого слова и никогда в жизни я не пошла против своей совести, ни разу. Но я почти не помню, чтобы моя статья шла в стол. Самый памятный случай был с Катаевым, с вот этим «Очень хорошо для „Нью-Йорк Таймс‟».
С. К.: Ну, вот еще передача была про Кима и Коваля…
А. Г.: Но это же не статья, а статьи у меня всегда выходили, и в том числе про Юлика и Юру я написала в «Юность»… А насчет компромиссов — компромиссов не было. Единственное, что я не могла не впрямую писать, в какой стране мы живем. Впрямую этого, конечно, не было — но это все-таки была художественная публицистика, она требовала какого-то другого языка, других оборотов, просто других слов. И я не чувствовала, что иду на какие-то компромиссы. Я ничего не делала такого, за что мне было бы стыдно, это очень важно. И то, что я была вне штата, мне, наверное, тоже помогало.
Но в 1969 году я все-таки пришла в штат в журнал «Журналист», где главным редактором был Егор Яковлев, потому что, хотя я и вкалывала как проклятая, уже очень трудно было зарабатывать и жить на гонорарах. А я все-таки была с ребенком, Сашке было одиннадцать лет, а я еще заболела на целый месяц, а значит, никаких гонораров, и нам уже просто нечего было есть. Это был жуткий период, потому что до этого мы как-то жили, и у меня не было комплексов, мне не казалось, что я нуждаюсь, а тут мы буквально погибали. И я, пока болела, поняла, что вот так на гонорарах уже не протяну свою семью. Поэтому я и пошла в «Журналист» — но еще и потому, что Егор Яковлев делал такой смелый журнал, абсолютно прогрессивный и супердемократический. И это после чешских событий! Но Егор лез напролом, и было ясно, что это скоро кончится. Но я помню все свои статьи, которые я успела там напечатать. Например, у меня была статья о наших так называемых социологических опросах… Вообще, такое счастье было туда попасть, но продолжалось это счастье недолго. Я помню, последняя капля, которая переполнила чашу их терпения — это была статья Толи Стреляного о колхозе. Потом в том же номере фотографии с острыми комментариями о китайской культурной революции. И еще что-то третье, я уже не помню, что их всех взбесило. И в один прекрасный день всех нас двенадцать человек во главе с Егором Яковлевым выгнали, и мы все оказались на улице. Это было ужасно. И я, кстати, даже и не помню, чтобы когда-нибудь выгоняли всю редакцию. Но, с другой стороны, и такого коллектива, как у Яковлева в «Журналисте», никогда не было, он был феноменальным…
А. Г.: Естественно, для этого нужно было идти в горком комсомола и договариваться. Мы ходили, обивали пороги, чтобы получить это разрешение, Леня Седов и еще один парень из архитектурного, безумного темперамента, сил и энергии… и мы в результате получили разрешение на то, чтобы сделать «Факел» в Доме слепых. Нам отдавали в неделю два-три вечера по договоренности с дирекцией этого Дома. Это же было государственное кафе, как и все тогда, но наши вечера были большим событием, подобного больше нигде не было. «Факел» закрыли очень быстро. Очень быстро, наверное, через полгода, а может быть, даже меньше.
С. К.: Мне очень интересна эта тема — как возникали и исчезали всякие формальные и неформальные объединения людей. Вот закрыли «Факел»…
А. Г.: На самом деле было много таких историй. Например, «Литературка», я там печаталась, когда произошла вся эта история с «Бабьим яром». Заведующим отделом был такой Феликс Кузнецов, в будущем абсолютно служивый человек, а тогда его называли «наш простой советский шестидесятник». И вот в отсутствие главного редактора Феликс взял и напечатал стихотворение Евтушенко «Бабий яр», — и на следующий день его сняли.
С. К.: Это тот самый Феликс Кузнецов, который гонитель «Метрополя» и…
А. Г.: Да, который потом сделался главой Московской писательской организации и стал жуткое говно. А тогда был «наш простой советский шестидесятник», это надо не забывать. Никто не вспоминает, что его уволили за «Бабий яр», что в один день он оказался на улице, представляешь? Это было крупнейшее событие по тем временам. Мы собрались потом, я помню, на следующий день в «Литературке», был шум, ор, все обсуждали, что теперь будет, закроют «Литературку» или нет, и вообще какой Феликс молодец… на руках его носили.
С. К.: А никому не приходило в голову сделать что-нибудь в поддержку уволенного товарища? Уволиться, как вся редакция Ленты.ру весной прошлого [2014] года? Это было невозможно в Ваше время?
А. Г.: Нет. Честно, нет. Мы все только сидели, говорили. Мы собрались. Это максимум, на что мы были способны. Одиночные пикеты были внутри нас.
Но потом вот интересно. Феликс довольно быстро устроился на радио заместителем главного редактора литдрамвещания, а главным редактором был внебрачный сын Сталина, очень, кстати, приличный человек. И он взял Феликса на работу, а Феликс взял меня корреспондентом. Была такая передача «Письмо зовет в дорогу». И вот там впервые мы стали делать такую импровизацию без печатного текста, без предварительного согласования. Это было событие по тем временам. Но в конце концов меня таки оттуда выгнали. Я сделала передачу «Начинающие менестрели», о Юлике Киме и Юрии Ковале, они тогда пели вместе. Я их позвала на радио, где мы записали передачу, которая так и не вышла. И меня после этого было приказано больше на радио не пускать. Вскорости и Феликс оттуда ушел, а дальше его жизнь пошла иначе, он сделал другой выбор, мы с ним разошлись, хотя он всегда говорил мне, как он меня любит и какая я единственная и неповторимая. Помню, он звал меня на свой день рождения, какой-то у него был юбилей, кажется, пятидесятилетие. Там много народу было, Андрей Тарковский, Тимур Гайдар, вообще масса замечательных людей, которые когда-то пили с Феликсом, в те времена, когда он был наш простой советский шестидесятник, а потом… Короче, меня вытурили с радио, и я стала писать очень много в «Литературке», «Юности», «Комсомолке», «Московском комсомольце» — везде.
С. К.: Но Вы были, говоря современным языком, фрилансером?
А. Г.: Да, я очень долго нигде не была в штате, почти до самого конца шестидесятых, то есть годы моей самой активной журналистской жизни… Я бесконечно моталась в командировки. «Письмо зовет в дорогу» так и осталось моим девизом. Я могла утром прилететь, а вечером улететь. Откуда только силы были, не понимаю.
С. К.: А вот мне интересно, как это было устроено в Советском Союзе. Вот вы внештатные авторы: вам оплачивали гостиницы, билеты, вот все это?
А. Г.: Конечно. О, эти гостиницы…
С. К.: Но был ведь риск, что написанный текст напечатать будет нельзя — либо будет плохо написан, либо идеологически невозможен? То есть газета рисковала, тратила деньги и могла при этом не получить ничего?
А. Г.: Да, именно так. Но я должна сказать, что, хотя я ни разу не пошла против своих убеждений и совести, ни разу не написала ни одной передовицы и прочего партийного трали-вали, я почти не помню, чтобы меня не напечатали. Я писала очень острые статьи и в «Литературке», и в «Юности». Каким-то образом мы умели как-то лавировать, и в строчках, и между строчек нести свое главное, ради чего работали. Я была идейным человеком в хорошем смысле этого слова и никогда в жизни я не пошла против своей совести, ни разу. Но я почти не помню, чтобы моя статья шла в стол. Самый памятный случай был с Катаевым, с вот этим «Очень хорошо для „Нью-Йорк Таймс‟».
С. К.: Ну, вот еще передача была про Кима и Коваля…
А. Г.: Но это же не статья, а статьи у меня всегда выходили, и в том числе про Юлика и Юру я написала в «Юность»… А насчет компромиссов — компромиссов не было. Единственное, что я не могла не впрямую писать, в какой стране мы живем. Впрямую этого, конечно, не было — но это все-таки была художественная публицистика, она требовала какого-то другого языка, других оборотов, просто других слов. И я не чувствовала, что иду на какие-то компромиссы. Я ничего не делала такого, за что мне было бы стыдно, это очень важно. И то, что я была вне штата, мне, наверное, тоже помогало.
Но в 1969 году я все-таки пришла в штат в журнал «Журналист», где главным редактором был Егор Яковлев, потому что, хотя я и вкалывала как проклятая, уже очень трудно было зарабатывать и жить на гонорарах. А я все-таки была с ребенком, Сашке было одиннадцать лет, а я еще заболела на целый месяц, а значит, никаких гонораров, и нам уже просто нечего было есть. Это был жуткий период, потому что до этого мы как-то жили, и у меня не было комплексов, мне не казалось, что я нуждаюсь, а тут мы буквально погибали. И я, пока болела, поняла, что вот так на гонорарах уже не протяну свою семью. Поэтому я и пошла в «Журналист» — но еще и потому, что Егор Яковлев делал такой смелый журнал, абсолютно прогрессивный и супердемократический. И это после чешских событий! Но Егор лез напролом, и было ясно, что это скоро кончится. Но я помню все свои статьи, которые я успела там напечатать. Например, у меня была статья о наших так называемых социологических опросах… Вообще, такое счастье было туда попасть, но продолжалось это счастье недолго. Я помню, последняя капля, которая переполнила чашу их терпения — это была статья Толи Стреляного о колхозе. Потом в том же номере фотографии с острыми комментариями о китайской культурной революции. И еще что-то третье, я уже не помню, что их всех взбесило. И в один прекрасный день всех нас двенадцать человек во главе с Егором Яковлевым выгнали, и мы все оказались на улице. Это было ужасно. И я, кстати, даже и не помню, чтобы когда-нибудь выгоняли всю редакцию. Но, с другой стороны, и такого коллектива, как у Яковлева в «Журналисте», никогда не было, он был феноменальным…
С. К.: Когда я слушаю Вас, у меня возникает чувство, что все это нам хорошо знакомо: закрыли одно издание — люди перешли в другое, закрыли другое — в третье…
А. Г.: Нет, все-таки масштаб дозволенности тогда и сейчас несравним, несопоставим. Тогда это были островки, отдельные голоса, а сейчас [в 2015 году] мы довольно громко высказываемся по радио, в интернете, на всяких конференциях и собраниях… и никто не оборачивается. А тогда все было плохо, все было нельзя. Но это всегда было лживое государство, всегда оно лгало. Ложь была его политикой. А сейчас к этому добавился даже не поиск врагов, а указание на врагов. Такая живая мишень, пожалуйста, стреляй. Встретишь — и можешь реализовать свой порыв (интервью было дано до убийства Бориса Немцова — С. К.). Но вообще, конечно, ни с чем нельзя сравнить сегодняшнее время, и именно благодаря интернету. А в наше время были только отдельные голоса, отдельные островки.
С. К.: Говоря об этих, как Вы их назвали, островках — какие были у вас неформальные места встреч, кроме молодежных кафе, которые закрывали через полгода, или редакций, откуда всех время от времени выгоняли?
А. Г.: Да, конечно. Был наш чердак, где мы делали стенгазету, а потом этот чердак перешел в мастерскую Лемпорта, Сидура и Силиса, которая была рядом с метро «Парк культуры». Это был гигантский кусок жизни, один из самых замечательных, пока, к сожалению, они не рассорились и не разошлись. Вот там было все: баклажанная икра, кильки в томате, вечные напитки типа водки и портвейна, гулянки… собирались лучшие люди Москвы, какие только были.
С. К.: Как я понимаю, это был все-таки мир андеграунда. И я хотел спросить, где относительно Вашего круга находились эти люди, например, лианозовцы? Они были совсем отдельно или были рядом?
А. Г.: Нет, они не были отдельно. Они были в нашей жизни. Мы были друг другу необходимы. Мы были им необходимы как те, кому они показывали свои работы, как те, кто ими восхищался. А нам они были необходимы, чтобы мы могли спускаться в их подвалы, чтобы могли подниматься до их высот.
С. К.: Люди андеграунда часто вообще не имели работы. А что сделали Вы, когда оказались на улице после истории с «Журналистом»?
А. Г.: Я опять оказалась вне штата, печаталась где-то, но было очень трудно. Моя подруга в это время была любовницей заместителя главного редактора киностудии Горького. И она ему в один день… точнее, в одну прекрасную ночь сказала: «Или ты берешь Алку Гербер на работу, или я с тобой расхожусь». Так и было, я тут не придумала ни одного слова! И вот на следующий день меня вызывают на студию Горького и говорят: оформляйтесь! Так я там появилась и сразу встретила Яшу Сигеля, которого я знала давно, еще по подвалу Лемпорта, Сидура и Силиса. Яша говорит: «А ты-то что здесь делаешь?» Мол, все знают, что ты журналист из «Юности». А я отвечаю: «Я ненадолго, я пересидеть». А Яша в ответ: «Алла, из кино не уходят, из кино выносят». Надо сказать, я до сих пор так это и чувствую, такая у меня тоска по той киношной жизни…
А. Г.: Нет, все-таки масштаб дозволенности тогда и сейчас несравним, несопоставим. Тогда это были островки, отдельные голоса, а сейчас [в 2015 году] мы довольно громко высказываемся по радио, в интернете, на всяких конференциях и собраниях… и никто не оборачивается. А тогда все было плохо, все было нельзя. Но это всегда было лживое государство, всегда оно лгало. Ложь была его политикой. А сейчас к этому добавился даже не поиск врагов, а указание на врагов. Такая живая мишень, пожалуйста, стреляй. Встретишь — и можешь реализовать свой порыв (интервью было дано до убийства Бориса Немцова — С. К.). Но вообще, конечно, ни с чем нельзя сравнить сегодняшнее время, и именно благодаря интернету. А в наше время были только отдельные голоса, отдельные островки.
С. К.: Говоря об этих, как Вы их назвали, островках — какие были у вас неформальные места встреч, кроме молодежных кафе, которые закрывали через полгода, или редакций, откуда всех время от времени выгоняли?
А. Г.: Да, конечно. Был наш чердак, где мы делали стенгазету, а потом этот чердак перешел в мастерскую Лемпорта, Сидура и Силиса, которая была рядом с метро «Парк культуры». Это был гигантский кусок жизни, один из самых замечательных, пока, к сожалению, они не рассорились и не разошлись. Вот там было все: баклажанная икра, кильки в томате, вечные напитки типа водки и портвейна, гулянки… собирались лучшие люди Москвы, какие только были.
С. К.: Как я понимаю, это был все-таки мир андеграунда. И я хотел спросить, где относительно Вашего круга находились эти люди, например, лианозовцы? Они были совсем отдельно или были рядом?
А. Г.: Нет, они не были отдельно. Они были в нашей жизни. Мы были друг другу необходимы. Мы были им необходимы как те, кому они показывали свои работы, как те, кто ими восхищался. А нам они были необходимы, чтобы мы могли спускаться в их подвалы, чтобы могли подниматься до их высот.
С. К.: Люди андеграунда часто вообще не имели работы. А что сделали Вы, когда оказались на улице после истории с «Журналистом»?
А. Г.: Я опять оказалась вне штата, печаталась где-то, но было очень трудно. Моя подруга в это время была любовницей заместителя главного редактора киностудии Горького. И она ему в один день… точнее, в одну прекрасную ночь сказала: «Или ты берешь Алку Гербер на работу, или я с тобой расхожусь». Так и было, я тут не придумала ни одного слова! И вот на следующий день меня вызывают на студию Горького и говорят: оформляйтесь! Так я там появилась и сразу встретила Яшу Сигеля, которого я знала давно, еще по подвалу Лемпорта, Сидура и Силиса. Яша говорит: «А ты-то что здесь делаешь?» Мол, все знают, что ты журналист из «Юности». А я отвечаю: «Я ненадолго, я пересидеть». А Яша в ответ: «Алла, из кино не уходят, из кино выносят». Надо сказать, я до сих пор так это и чувствую, такая у меня тоска по той киношной жизни…
“
Я возила с собой бобины с фильмами, показывала их и говорила все, что хотела. Вот где я разошлась! Говорила все, что хочу!
С. К.: А что Вы делали на студии Горького?
А. Г.: Я была редактором, членом редколлегии, получала зарплату. А редактор тогда все делал, от и до. Какие-то мои фильмы до сих пор помнятся. Вот «Офицеры», где мы с Борей Васильевым придумали сценарий, где есть фраза знаменитая «Есть такая профессия — Родину защищать». Это мы с ним сидели, выпивали и говорили, что нужна какая-то фраза, чтобы запомнилась. Борис вспомнил, что его папа (он был военный) часто повторял: «Есть такая профессия — Родину защищать», так она и попала в фильм. Бори Васильева уже нет, чудный был человек, настоящий мужчина.
Гриша Горин как-то подписал мне книжку «Нашей дорогой пятидесятипроцентнице» — знаете, почему? Дело было так: ребята мне приносили заявку на сценарий, под нее давали двадцать пять процентов, под первый вариант еще двадцать пять — всего пятьдесят. А дальше уже обычно ничего не проходило, потому что сценарии были непроходные. Так у меня были и Горин, и Арканов, и Аксенов, и Заходер, и целая группа людей, которых я, можно сказать, подкармливала, получая за это, может быть, одну гвоздику. Я была бы миллионером, если бы жила в другой стране!
И так я четыре года (три с половиной) провела на студии Горького. Ушла оттуда в 73-м или 74-м и стала писать в «Советский экран». Первая моя статья была о «Зеркале», называлась «В предчувствии фильма», потому что Андрей Тарковский никого не пускал на съемки, а меня пустил. Помню, мы там сидели за столом, и он поднял тост за самую русскую женщину среди нас — то есть за меня. А я ему ответила: если ты хочешь выпить за меня, Бога ради, только я еврейка. Меня это дико взбесило, хотя я тогда еще еврейскими делами совсем не занималась.
Короче, я стала работать в «Советском экране» и начала писать о кино, потому что через фильмы мне гораздо легче было говорить какие-то очень серьезные вещи о том, что у нас происходит в жизни. Я оставалась таким же публицистом, каким была до этого, так никогда и не стала настоящим кинокритиком, настоящим киноведом. Но с кино был связан еще один очень интересный этап — помимо того, что я писала, я много ездила с лекциями. Я возила с собой бобины с фильмами, показывала их и говорила все, что хотела. Вот где я разошлась! Говорила все, что хочу! И у меня были темы, которые мне давали такую возможность, например, «Авторская песня на экране». Я доставала всякие фильмы, сейчас смешно говорить, а тогда я доставала фрагменты с Высоцким, Окуджавой, такие закрытые, полочные и даже не полочные, а какие-то любительские, домашние. Как выяснилось, я оказалась блестящим оратором и умела выступать, у меня были залы по три-четыре тысячи человек. Как сейчас помню, например, в Караганде был полный зал, достать билеты было невозможно, и все приходили с магнитофонами и записывали. Вообще эти мои поездки на том этапе сильно укрепили мою любовь к России, потому что я встречала там столько замечательных людей, столько искренних, честных, молодых! Они приходили на эти мои лекции о кино с горящими глазами, с магнитофонами, а потом тащили меня на какие-то разговоры, чтобы я им рассказывала, что там в «Новом мире», что там в «Юности», и до утра мы сидели и разговаривали, и я всегда возвращалась в Москву очень воодушевленная.
С. К.: А это от кого Вы ездили?
А. Г.: От бюро пропаганды киноискусства. Я еще книжки для них писала: про Илью Авербаха, про Абдрашитова и Миндадзе, про Васю Ливанова, про Илью Фрэза… у меня было очень много, штук пять или шесть таких книг от бюро пропаганды кино, где я «гуляла», как хотела. Они действительно были очень хорошие и абсолютно свободные. И мне иногда за это доставалось.
Скажем, однажды я выступила в Минске, да так, что меня туда больше не пускали. При этом ничего особенного такого я не говорила, но после этого мои поездки в Минск все запрещали. Время от времени на меня поступали жалобы и доносы, но бюро пропаганды было удивительным местом, там работали совершенно замечательные люди, именно в этом лекторском отделе. Замечательные были ребята, очень меня как-то любили, знали, как я популярна, и я, конечно, этим пользовалась, чтобы говорить то, что хотела и считала важным.
С. К.: Это страшно интересный феномен, довольно мало осознанный молодым поколением, в глазах которых в семидесятые были люди андеграунда и диссиденты, а с другой стороны, был репрессивный режим и обычные люди, которые жили обычной, почти внеидеологической жизнью. И совершенно вне поля зрения нынешней образованной молодежи оказывается то, о чем мы с Вами сегодня говорим: вот эти довольно большие острова, существовавшие внутри государственной системы и на государственные деньги, но при этом являющиеся такими очагами неофициального (слово «оппозиционными» кажется мне здесь даже избыточным) существования…
А. Г.: Неофициального честного существования. Даже не будет это громко говорить, просто честного.
С. К.: Да, как я понимаю, именно так Ваше поколение их и воспринимало. Мне кажется, их было довольно много, а описаны редкие места, да и то потому, что там внутри или рядом оказался кто-то великий, типа Сергея Довлатова. А так об этом страшно мало известно. И вот мне интересно, насколько много было людей, например, внутри бюро пропаганды киноисскуства, которые понимали, что Вы делаете лично или что вы делаете все вместе? Они не замечали Ваших фрондерских, идеологически чуждых демаршей или закрывали на них глаза? Это была история про помощь друзьям или, наоборот, про то, что мы здесь вместе что-то важное делаем? Про какую-то осознанную попытку выстроить альтернативную ценностную иерархию? Про надежду изменить действительно страну? Про что?
А. Г.: Я вам должна сказать… Иногда были люди, которые ощущали это как миссию, как возможность с трибуны говорить какие-то откровенные вещи. А что касается моих лекций, то не надо еще забывать, что в то время было очень интересное кино. Были фильмы Абдрашитова, был фильм Германа, который лежал на полке, фильмы Панфилова, Митты, Климова, Шепитько, Киры Муратовой, Отара Иоселиани. То есть было не только, о чем говорить, но было что показывать!
Потом говорили, что семидесятые — это мертвый сезон, тупая брежневщина, самый застой застоевич. А между тем, если посмотреть, что тогда происходило в кино и театре у нас в Москве, то все это совершенно поразительно!
А возвращаясь к моим поездкам, очень интересно было с Иоселиани. Я ездила с «Пасторалью», сначала показывала фильм, а потом я выходила — и увидела, что почти все зрители уходят во время фильма. И тогда я сделала по-другому: я сначала вышла и поговорила с людьми, и ни один человек потом не ушел. Я поняла, как это важно, когда людям вот так объяснить, что они увидят. Этим мало кто у нас занимался.
Когда я ездила с этими фильмами по стране, я воспринимала это именно как миссию, как возможность сказать правду, пока у меня в руках микрофон.
Но нельзя сказать, что многие критики и киноведы так воспринимали свои поездки, как я.
А. Г.: Я была редактором, членом редколлегии, получала зарплату. А редактор тогда все делал, от и до. Какие-то мои фильмы до сих пор помнятся. Вот «Офицеры», где мы с Борей Васильевым придумали сценарий, где есть фраза знаменитая «Есть такая профессия — Родину защищать». Это мы с ним сидели, выпивали и говорили, что нужна какая-то фраза, чтобы запомнилась. Борис вспомнил, что его папа (он был военный) часто повторял: «Есть такая профессия — Родину защищать», так она и попала в фильм. Бори Васильева уже нет, чудный был человек, настоящий мужчина.
Гриша Горин как-то подписал мне книжку «Нашей дорогой пятидесятипроцентнице» — знаете, почему? Дело было так: ребята мне приносили заявку на сценарий, под нее давали двадцать пять процентов, под первый вариант еще двадцать пять — всего пятьдесят. А дальше уже обычно ничего не проходило, потому что сценарии были непроходные. Так у меня были и Горин, и Арканов, и Аксенов, и Заходер, и целая группа людей, которых я, можно сказать, подкармливала, получая за это, может быть, одну гвоздику. Я была бы миллионером, если бы жила в другой стране!
И так я четыре года (три с половиной) провела на студии Горького. Ушла оттуда в 73-м или 74-м и стала писать в «Советский экран». Первая моя статья была о «Зеркале», называлась «В предчувствии фильма», потому что Андрей Тарковский никого не пускал на съемки, а меня пустил. Помню, мы там сидели за столом, и он поднял тост за самую русскую женщину среди нас — то есть за меня. А я ему ответила: если ты хочешь выпить за меня, Бога ради, только я еврейка. Меня это дико взбесило, хотя я тогда еще еврейскими делами совсем не занималась.
Короче, я стала работать в «Советском экране» и начала писать о кино, потому что через фильмы мне гораздо легче было говорить какие-то очень серьезные вещи о том, что у нас происходит в жизни. Я оставалась таким же публицистом, каким была до этого, так никогда и не стала настоящим кинокритиком, настоящим киноведом. Но с кино был связан еще один очень интересный этап — помимо того, что я писала, я много ездила с лекциями. Я возила с собой бобины с фильмами, показывала их и говорила все, что хотела. Вот где я разошлась! Говорила все, что хочу! И у меня были темы, которые мне давали такую возможность, например, «Авторская песня на экране». Я доставала всякие фильмы, сейчас смешно говорить, а тогда я доставала фрагменты с Высоцким, Окуджавой, такие закрытые, полочные и даже не полочные, а какие-то любительские, домашние. Как выяснилось, я оказалась блестящим оратором и умела выступать, у меня были залы по три-четыре тысячи человек. Как сейчас помню, например, в Караганде был полный зал, достать билеты было невозможно, и все приходили с магнитофонами и записывали. Вообще эти мои поездки на том этапе сильно укрепили мою любовь к России, потому что я встречала там столько замечательных людей, столько искренних, честных, молодых! Они приходили на эти мои лекции о кино с горящими глазами, с магнитофонами, а потом тащили меня на какие-то разговоры, чтобы я им рассказывала, что там в «Новом мире», что там в «Юности», и до утра мы сидели и разговаривали, и я всегда возвращалась в Москву очень воодушевленная.
С. К.: А это от кого Вы ездили?
А. Г.: От бюро пропаганды киноискусства. Я еще книжки для них писала: про Илью Авербаха, про Абдрашитова и Миндадзе, про Васю Ливанова, про Илью Фрэза… у меня было очень много, штук пять или шесть таких книг от бюро пропаганды кино, где я «гуляла», как хотела. Они действительно были очень хорошие и абсолютно свободные. И мне иногда за это доставалось.
Скажем, однажды я выступила в Минске, да так, что меня туда больше не пускали. При этом ничего особенного такого я не говорила, но после этого мои поездки в Минск все запрещали. Время от времени на меня поступали жалобы и доносы, но бюро пропаганды было удивительным местом, там работали совершенно замечательные люди, именно в этом лекторском отделе. Замечательные были ребята, очень меня как-то любили, знали, как я популярна, и я, конечно, этим пользовалась, чтобы говорить то, что хотела и считала важным.
С. К.: Это страшно интересный феномен, довольно мало осознанный молодым поколением, в глазах которых в семидесятые были люди андеграунда и диссиденты, а с другой стороны, был репрессивный режим и обычные люди, которые жили обычной, почти внеидеологической жизнью. И совершенно вне поля зрения нынешней образованной молодежи оказывается то, о чем мы с Вами сегодня говорим: вот эти довольно большие острова, существовавшие внутри государственной системы и на государственные деньги, но при этом являющиеся такими очагами неофициального (слово «оппозиционными» кажется мне здесь даже избыточным) существования…
А. Г.: Неофициального честного существования. Даже не будет это громко говорить, просто честного.
С. К.: Да, как я понимаю, именно так Ваше поколение их и воспринимало. Мне кажется, их было довольно много, а описаны редкие места, да и то потому, что там внутри или рядом оказался кто-то великий, типа Сергея Довлатова. А так об этом страшно мало известно. И вот мне интересно, насколько много было людей, например, внутри бюро пропаганды киноисскуства, которые понимали, что Вы делаете лично или что вы делаете все вместе? Они не замечали Ваших фрондерских, идеологически чуждых демаршей или закрывали на них глаза? Это была история про помощь друзьям или, наоборот, про то, что мы здесь вместе что-то важное делаем? Про какую-то осознанную попытку выстроить альтернативную ценностную иерархию? Про надежду изменить действительно страну? Про что?
А. Г.: Я вам должна сказать… Иногда были люди, которые ощущали это как миссию, как возможность с трибуны говорить какие-то откровенные вещи. А что касается моих лекций, то не надо еще забывать, что в то время было очень интересное кино. Были фильмы Абдрашитова, был фильм Германа, который лежал на полке, фильмы Панфилова, Митты, Климова, Шепитько, Киры Муратовой, Отара Иоселиани. То есть было не только, о чем говорить, но было что показывать!
Потом говорили, что семидесятые — это мертвый сезон, тупая брежневщина, самый застой застоевич. А между тем, если посмотреть, что тогда происходило в кино и театре у нас в Москве, то все это совершенно поразительно!
А возвращаясь к моим поездкам, очень интересно было с Иоселиани. Я ездила с «Пасторалью», сначала показывала фильм, а потом я выходила — и увидела, что почти все зрители уходят во время фильма. И тогда я сделала по-другому: я сначала вышла и поговорила с людьми, и ни один человек потом не ушел. Я поняла, как это важно, когда людям вот так объяснить, что они увидят. Этим мало кто у нас занимался.
Когда я ездила с этими фильмами по стране, я воспринимала это именно как миссию, как возможность сказать правду, пока у меня в руках микрофон.
Но нельзя сказать, что многие критики и киноведы так воспринимали свои поездки, как я.
С. К.: Вот я хотел бы вернуться к одному моменту. Люди следующего поколения, условные семидесятники, часто воспринимали советскую власть, государство как врага и старались минимизировать свои контакты с ним, вплоть до заявлений «Я ни дня не работал на это государство и ни копейки у него не взял». Я не говорю, что эти заявления всегда соответствовали правде, но тем не менее такая позиция у поколения семидесятников вполне была. А в Вашем случае — Вы вот рассказываете, что люди писали заявку на фильм, который, очевидно, не будет снят, получали свои пятьдесят процентов, не давая ничего взамен… не кажется ли, что это немного обман, немного двусмысленная ситуация? Это была позиция «Государство — враг, и обмануть его — это обычное дело»? Или, наоборот, это был такой компромисс: ну, наше государство не такое хорошее, как нам хотелось бы, но пусть оно хоть как-то поддерживает талантливых людей?
А. Г.: Это очень интересный вопрос. Было ли у нас вот это чувство двойственности? Скажу честно, я об этом не думала. Каюсь.
С. К.: Несколько лет назад, Вы, наверное, помните, была довольно острая полемика между Димой Быковым и Михаилом Шишкиным по поводу участия в Нью-Йоркской книжной выставке, когда Шишкин сказал: «Я не хочу ассоциироваться с этим государством и не могу себе позволить на его деньги куда-то ехать». Правильно ли я понимаю, что эта позиция была в Вашем поколении вообще непредставима?
А. Г.: Нет, почему? Такая позиция вполне была. Но если ты ее занимаешь, то ты — диссидент, ты уезжаешь или идешь в подполье.
С. К.: А если нет, то ты вынужден у этого государства брать деньги, тем более что это единственный работодатель?
А. Г.: Да, именно так. Мы знали, что платит нам государство. Но это же значит, что платят налогоплательщики, народ платит в какой-то степени. Через государство. Но мы живем не для государства, не для себя. Мы живем для людей, в этом наша миссия. И это самое главное.
С. К.: При таком подходе неизбежно встает вопрос об уровне допустимого компромисса. Как каждый для себя, как Вы для себя, прежде всего, отвечали на вопрос «Почему я продолжаю в каждой статье использовать какой-то эзопов язык, а не ухожу, скажем, в подполье?»? Было ли чувство, что если вовремя не остановиться, то можно оказаться Феликсом Кузнецовым?
А. Г.: Я вас понимаю. Но я точно знала, абсолютно точно, что никогда не стану Феликсом Кузнецовым, исключено было навсегда. Начать с того, что я в свое время бросила в снег свой комсомольский билет, когда меня выгоняли в институте из комсомола.
С. К.: За что?
А. Г.: За сокрытие анкетных данных. Дело в том, что, когда я поступала, папа еще сидел. И я должна была что-то такое сказать, чтобы не писать, что он сидит, потому что тогда меня, конечно, никуда бы не приняли. И я написала: последнее место работы отца — такое-то, последнее место работы матери — такое-то. И не соврала, так оно и было, они не обратили внимания. А потом через года два обнаружили сокрытие анкетных данных. И меня выгоняли из комсомола, в горкоме, в огромном таком кабинете. Потом, кстати, этот горком стал юкосовским домом, и там была сосредоточена вся общественная деятельность, и ровно в этом кабинете сидел Леня Невзлин. Я когда к нему впервые пришла, сразу узнала кабинет, где меня из комсомола выгоняли. Это было очень смешно, как все близко. И кстати, человек, который меня выгонял, секретарь горкома, до сих пор жив, я его как-то недавно встретила в Барвихе…
Но тогда меня не выгнали, а только объявили выговор с занесением в личное дело, я же все-таки ничего не соврала, честно написала последнее место работы. Но все равно, вышла я тогда после всего этого… помню как сейчас, в Колпачном переулке был большой такой сугроб, и я кинула туда комсомольский билет, и на этом моя комсомольская жизнь закончилась. Я потом не платила взносы, ничего. Все махнули на это рукой, уже время такое пошло. Сталин умер, и как-то уже было непонятно, что, как и куда.
Но вообще меня дважды выгоняли из комсомола и дважды выгоняли с работы. Один раз вместе со всей редакцией из яковлевского «Журналиста», а другой раз — как раз из «Советского экрана».
С. К.: А из «Советского экрана» за что?
А. Г.: А был такой Орлов, тоже сейчас жив-здоров, между прочим.
С. К.: В свое время вел «Кинопанораму».
А. Г.: Да-да, а потом стал главным редактором «Советского экрана». Мои статьи ему сильно не нравились, он перестал меня печатать. Я тогда решила пойти, поговорить с ним, выяснить, сколько же можно. А он мне говорит: «Вы знаете, Алла Ефремовна, у меня такое ощущение, что вы плохо читаете статьи товарища Брежнева», а я в ответ: «Я должна вас огорчить, я их вообще не читаю», потому что уже было ясно, куда дальше дело пойдет. А он продолжает, что, мол, я вот читаю ваши статьи, и вы все время прославляете этого плохого режиссера Отара Иоселиани. Я говорю: ну если главный редактор киножурнала говорит о том, что Отар Иоселиани — плохой режиссер, то я не понимаю, что я вообще здесь делаю. А Орлов как бы не слышит ничего и говорит: «И вообще, вы пользуетесь не той лексикой». — «Как так?» — «А вот у вас такая фраза была: „Добро вырождается в слащаво-паточное добрецо‟. Вы понимаете, с чем рифмуется слово „добрецо‟?» Помню, я встаю и спокойно так говорю: «После этого мне ничего не остается, как написать заявление об увольнении». «Ну, пожалуйста», — и протянул белый лист.
С. К.: Вы облегчили ему задачу. Надо было все-таки спросить, с каким словом рифмуется, хотелось бы его услышать, это слово.
А. Г.: Да, не сообразила, надо было ему сказать: «А какое слово вы имеете в виду?» Но раз уж начали с того, что я не читаю статьи товарища Брежнева, то чего уж там!
С. К.: Я помню, Вы рассказывали, что в перестройку все хотели его спросить, как у него теперь со статьями товарища Брежнева?
А. Г.: Это вообще постоянная история у меня. Помню, на экзамене в институте от меня потребовали, чтобы я дословно цитировала Берию, а я сказала экзаменатору: «В конце концов, Берия еще не классик, чтобы его цитировать». За это меня должны были выгнать вообще из института. Но экзаменатор почему-то посмотрел на меня с большим удивлением и просто поставил «три». А потом, почти сразу, Берию сняли.
С. К.: Но вернемся к тому, как Вас уволили из «Советского экрана». Тут очень интересно, что то, что Вас выгнали с работы, не влекло за собой (в отличие от, скажем, сталинских времен) не то что ареста, но даже исключения из Союза писателей. Или было некоторое понимание, за что исключают из СП? Скажем, за нелояльность выгоняют с работы, а из СП исключают, я не знаю, за участие в альманахе «Метрополь»?
А. Г.: За «Метрополь» как раз никого не исключили… Аксенова не исключили, ему как бы предложили уехать, но формального исключения не было.
С. К.: А Виктора Ерофеева и Евгения Попова?
А. Г.: А их просто не приняли в Союз, хотя до этого собирались. Я их обоих очень хорошо знала, Вася привел их ко мне, еще когда я работала на студии Горького, чтобы я им помогла. Они написали заявку, но у меня, к сожалению, не получилось тогда, заявка была не та, ну, в общем, не вышло.
С. К.: Как я понимаю, «Метрополь» был важной попыткой людей Вашего круга, людей, находившихся в каких-то официальных отношениях с советской властью, выделить для себя какую-то новую территорию свободы, сделать такой шаг в сторону большей независимости. Для меня это — пожалуй, последняя попытка такого рода в доперестроечном СССР, очень, как мне кажется, важная в свете вот этой темы временных свободных зон, о которых мы говорим с Вами сегодня. Почему, кстати, Вы не участвовали в «Метрополе», ведь среди его участников было много Ваших друзей, тот же Василий Аксенов?
А. Г.: Меня не позвали. Я была их человеком, я была с ними со всеми в очень хороших отношениях. Я не знаю, почему не позвали, — я, кстати, потом очень по этому поводу переживала и даже комплексовала. Может, они считали, что у меня нет такого произведения, которое можно было бы туда дать, — а у меня была статья о Тарковском, которая нигде не пошла, может, они об этом не знали. Когда я приехала в Вашингтон, мы с ним там встречались, с Васей Аксеновым, и я его спросила: «Вась, почему вы меня не позвали?» Он говорит: «Это необъяснимо, я не могу тебе ничего сказать, вот так как-то получилось». Почему, непонятно, непостижимо. Я так плакала, когда узнала, что меня не позвали, не могла понять, почему. Но тогда я ничего не сказала Васе. Вот это была такая горькая обида, обида от своих.
А. Г.: Это очень интересный вопрос. Было ли у нас вот это чувство двойственности? Скажу честно, я об этом не думала. Каюсь.
С. К.: Несколько лет назад, Вы, наверное, помните, была довольно острая полемика между Димой Быковым и Михаилом Шишкиным по поводу участия в Нью-Йоркской книжной выставке, когда Шишкин сказал: «Я не хочу ассоциироваться с этим государством и не могу себе позволить на его деньги куда-то ехать». Правильно ли я понимаю, что эта позиция была в Вашем поколении вообще непредставима?
А. Г.: Нет, почему? Такая позиция вполне была. Но если ты ее занимаешь, то ты — диссидент, ты уезжаешь или идешь в подполье.
С. К.: А если нет, то ты вынужден у этого государства брать деньги, тем более что это единственный работодатель?
А. Г.: Да, именно так. Мы знали, что платит нам государство. Но это же значит, что платят налогоплательщики, народ платит в какой-то степени. Через государство. Но мы живем не для государства, не для себя. Мы живем для людей, в этом наша миссия. И это самое главное.
С. К.: При таком подходе неизбежно встает вопрос об уровне допустимого компромисса. Как каждый для себя, как Вы для себя, прежде всего, отвечали на вопрос «Почему я продолжаю в каждой статье использовать какой-то эзопов язык, а не ухожу, скажем, в подполье?»? Было ли чувство, что если вовремя не остановиться, то можно оказаться Феликсом Кузнецовым?
А. Г.: Я вас понимаю. Но я точно знала, абсолютно точно, что никогда не стану Феликсом Кузнецовым, исключено было навсегда. Начать с того, что я в свое время бросила в снег свой комсомольский билет, когда меня выгоняли в институте из комсомола.
С. К.: За что?
А. Г.: За сокрытие анкетных данных. Дело в том, что, когда я поступала, папа еще сидел. И я должна была что-то такое сказать, чтобы не писать, что он сидит, потому что тогда меня, конечно, никуда бы не приняли. И я написала: последнее место работы отца — такое-то, последнее место работы матери — такое-то. И не соврала, так оно и было, они не обратили внимания. А потом через года два обнаружили сокрытие анкетных данных. И меня выгоняли из комсомола, в горкоме, в огромном таком кабинете. Потом, кстати, этот горком стал юкосовским домом, и там была сосредоточена вся общественная деятельность, и ровно в этом кабинете сидел Леня Невзлин. Я когда к нему впервые пришла, сразу узнала кабинет, где меня из комсомола выгоняли. Это было очень смешно, как все близко. И кстати, человек, который меня выгонял, секретарь горкома, до сих пор жив, я его как-то недавно встретила в Барвихе…
Но тогда меня не выгнали, а только объявили выговор с занесением в личное дело, я же все-таки ничего не соврала, честно написала последнее место работы. Но все равно, вышла я тогда после всего этого… помню как сейчас, в Колпачном переулке был большой такой сугроб, и я кинула туда комсомольский билет, и на этом моя комсомольская жизнь закончилась. Я потом не платила взносы, ничего. Все махнули на это рукой, уже время такое пошло. Сталин умер, и как-то уже было непонятно, что, как и куда.
Но вообще меня дважды выгоняли из комсомола и дважды выгоняли с работы. Один раз вместе со всей редакцией из яковлевского «Журналиста», а другой раз — как раз из «Советского экрана».
С. К.: А из «Советского экрана» за что?
А. Г.: А был такой Орлов, тоже сейчас жив-здоров, между прочим.
С. К.: В свое время вел «Кинопанораму».
А. Г.: Да-да, а потом стал главным редактором «Советского экрана». Мои статьи ему сильно не нравились, он перестал меня печатать. Я тогда решила пойти, поговорить с ним, выяснить, сколько же можно. А он мне говорит: «Вы знаете, Алла Ефремовна, у меня такое ощущение, что вы плохо читаете статьи товарища Брежнева», а я в ответ: «Я должна вас огорчить, я их вообще не читаю», потому что уже было ясно, куда дальше дело пойдет. А он продолжает, что, мол, я вот читаю ваши статьи, и вы все время прославляете этого плохого режиссера Отара Иоселиани. Я говорю: ну если главный редактор киножурнала говорит о том, что Отар Иоселиани — плохой режиссер, то я не понимаю, что я вообще здесь делаю. А Орлов как бы не слышит ничего и говорит: «И вообще, вы пользуетесь не той лексикой». — «Как так?» — «А вот у вас такая фраза была: „Добро вырождается в слащаво-паточное добрецо‟. Вы понимаете, с чем рифмуется слово „добрецо‟?» Помню, я встаю и спокойно так говорю: «После этого мне ничего не остается, как написать заявление об увольнении». «Ну, пожалуйста», — и протянул белый лист.
С. К.: Вы облегчили ему задачу. Надо было все-таки спросить, с каким словом рифмуется, хотелось бы его услышать, это слово.
А. Г.: Да, не сообразила, надо было ему сказать: «А какое слово вы имеете в виду?» Но раз уж начали с того, что я не читаю статьи товарища Брежнева, то чего уж там!
С. К.: Я помню, Вы рассказывали, что в перестройку все хотели его спросить, как у него теперь со статьями товарища Брежнева?
А. Г.: Это вообще постоянная история у меня. Помню, на экзамене в институте от меня потребовали, чтобы я дословно цитировала Берию, а я сказала экзаменатору: «В конце концов, Берия еще не классик, чтобы его цитировать». За это меня должны были выгнать вообще из института. Но экзаменатор почему-то посмотрел на меня с большим удивлением и просто поставил «три». А потом, почти сразу, Берию сняли.
С. К.: Но вернемся к тому, как Вас уволили из «Советского экрана». Тут очень интересно, что то, что Вас выгнали с работы, не влекло за собой (в отличие от, скажем, сталинских времен) не то что ареста, но даже исключения из Союза писателей. Или было некоторое понимание, за что исключают из СП? Скажем, за нелояльность выгоняют с работы, а из СП исключают, я не знаю, за участие в альманахе «Метрополь»?
А. Г.: За «Метрополь» как раз никого не исключили… Аксенова не исключили, ему как бы предложили уехать, но формального исключения не было.
С. К.: А Виктора Ерофеева и Евгения Попова?
А. Г.: А их просто не приняли в Союз, хотя до этого собирались. Я их обоих очень хорошо знала, Вася привел их ко мне, еще когда я работала на студии Горького, чтобы я им помогла. Они написали заявку, но у меня, к сожалению, не получилось тогда, заявка была не та, ну, в общем, не вышло.
С. К.: Как я понимаю, «Метрополь» был важной попыткой людей Вашего круга, людей, находившихся в каких-то официальных отношениях с советской властью, выделить для себя какую-то новую территорию свободы, сделать такой шаг в сторону большей независимости. Для меня это — пожалуй, последняя попытка такого рода в доперестроечном СССР, очень, как мне кажется, важная в свете вот этой темы временных свободных зон, о которых мы говорим с Вами сегодня. Почему, кстати, Вы не участвовали в «Метрополе», ведь среди его участников было много Ваших друзей, тот же Василий Аксенов?
А. Г.: Меня не позвали. Я была их человеком, я была с ними со всеми в очень хороших отношениях. Я не знаю, почему не позвали, — я, кстати, потом очень по этому поводу переживала и даже комплексовала. Может, они считали, что у меня нет такого произведения, которое можно было бы туда дать, — а у меня была статья о Тарковском, которая нигде не пошла, может, они об этом не знали. Когда я приехала в Вашингтон, мы с ним там встречались, с Васей Аксеновым, и я его спросила: «Вась, почему вы меня не позвали?» Он говорит: «Это необъяснимо, я не могу тебе ничего сказать, вот так как-то получилось». Почему, непонятно, непостижимо. Я так плакала, когда узнала, что меня не позвали, не могла понять, почему. Но тогда я ничего не сказала Васе. Вот это была такая горькая обида, обида от своих.
Во второй части интервью с Аллой Гербер мы поговорим о судьбе ее поколения, поколения шестидесятников — от «оттепели» до перестройки и девяностых годов. Рок-н-ролл, фельетон «Сбацаем фоксик, Аллочка!», Коктебель, дома творчества, (не)возможность эмиграции, дружба с диссидентами, участие в перестройке и альманахе «Апрель».






