Tilda Publishing
Алла Гербер: «Это была наша демонстрация свободы — ходить в шортах, когда это было запрещено»
Мы продолжаем публикацию большого интервью с Аллой Гербер, взятого главным редактором «Букника» зимой 2014–2015 года. В первой части Алла Ефремовна рассказывала об островках свободы внутри советской жизни, а на этот раз речь пойдет о судьбе ее поколения, поколения шестидесятников — от «оттепели» до перестройки и девяностых годов. Рок-н-ролл, фельетон «Сбацаем фоксик, Аллочка!», Коктебель, дома творчества, (не)возможность эмиграции, дружба с диссидентами, участие в перестройке и альманахе «Апрель».
Публикация приурочена к юбилею Аллы Гербер. Пользуясь случаем, еще раз поздравляем ее и желаем до ста двадцати!
Публикация приурочена к юбилею Аллы Гербер. Пользуясь случаем, еще раз поздравляем ее и желаем до ста двадцати!
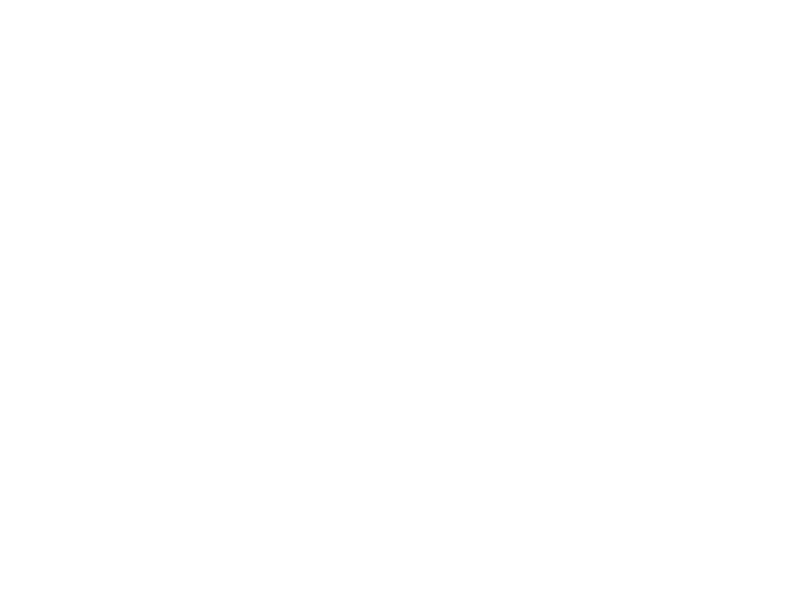
Сергей Кузнецов: Давайте сегодня поговорим о вашем поколении, о шестидесятниках. Когда я смотрю фильмы или читаю книжки про это время, меня очень удивляет, что возникает ощущение очень оптимистичного поколения, с надеждой глядящего в будущее. Мне всегда было непонятно, как эти люди, у которых почти у всех сидели родители, могли вырасти вот такими, а не с глубоко трагическим мироощущением?
Алла Гербер: Это очень хороший вопрос, я сама много об этом думаю. Да, у всех сидели, все пережили разное, в том числе страшное, но была удивительная закваска у этого поколения… не в том, что всем нам умирать, а какого-то такого светлого детства. Вот это было у этих людей, как ни странно… у меня же тоже папа сидел, а я сохранила этот свет в окошке и это радостное восприятие жизни. Я ведь такая неистребимая оптимистка, и этот неистребимый оптимизм был у поколения, это не я только.
Это смешно, но все эти песни, все эти такие веселые пионерские лагеря… Семьи были светлые. Люди, рожденные в революцию и, по сути дела, ставшие жертвами этой революции — они несли в себе заряд этой идиотской веры, без которой не было бы послереволюционного расцвета живописи, искусства и театра. Не случайно же это были десять дней, которые потрясли мир, — и вот это потрясение люди в себе несли. Это не значит, что они что-то такое говорили, не в словах дело. Просто я помню все свое детство как абсолютный свет — ну, кроме войны, конечно. И праздники, и эти театры, и замечательные какие-то кружки, и даже пионерские сборы — все это было так весело. Да, было весело. Не было же ощущения, что это все какая-то гадость. И дело даже не в том, что мы верили в Сталина — это, кстати, меньше всего, особенно уже во взрослом возрасте, мы же, слава Богу, не дуры были и соображали, что и папа сидел, и дедушка, и все такое. Но вот что-то такое было — и пока еще ни у одного историка, ни у одного писателя не хватило сил, ума, терпения для того, чтобы сесть и спокойно понять, что это все такое было. Я думаю, это был какой-то заряд, данный 1917–1918 годами, вот этими безумными годами, и полученный нами от наших семей, наших родителей. И мы сохранили этот заряд, полученный от детства, этот заряд, эту веру. Веру в слово, веру в искусство, веру в хороших людей. Веру в то, что может быть вообще какая-то другая страна, другая планета, на которой не будет вот этого «Трудно быть Богом», которое показал Герман и которое не так откровенно и не так смертельно описали Стругацкие.
С. К.: Мне кажется, вы правильно здесь упомянули Стругацких, которые, в частности, известны своей единственной успешной советской утопией — романами про «Мир Полудня», выросшими именно из этой веры в светлое будущее. Значит ли это, что для вас существующий в жизни ужас, будь то ужас лагерей или экзистенциальный ужас, внутренне воспринимался не как перманентно присущий человеческому бытию, а как некоторый пережиток прошлого, который потом в будущем может исчезнуть, должен исчезнуть?
А. Г.: Да. Мне всегда казалось, что что-нибудь да будет. Что-нибудь да будет. Не то что все будет хорошо, но что-нибудь да будет. И еще была какая-то детская инфантильность в этом поколении. Возможно, потому что не было этой безумной борьбы за деньги, потому что возможности-то были очень ограничены, не было этого рынка. Только пойми меня правильно, избави Бог, я гайдаровский человек, я не против рынка, но это все-таки очень ожесточает людей, лишает их какого-то детства… А мы были, прямо скажем, детское поколение. Я это чувствовала всегда и в своей семье, и у своих товарищей, что мы какие-то дети. Мы как прыгали в детстве через веревочку, так и прыгали дальше…
Я же всегда зарабатывала гроши, но у меня никогда не было комплексов малообеспеченного человека. Я на эти гроши что-то умудрялась делать. У меня вечно был полный дом народа, сейчас это уже не так, к сожалению, но раньше вечно был полный дом народу.
С. К.: Я помню сам. Для меня, мальчика, молодого человека, вы как раз выглядели… я не скажу «богато», но как раз так, как и должен жить творческий человек. Иногда, может, денег нет, но когда есть, то они есть.
А. Г.: Да. Понимаешь, я не хочу сказать, что мы были бессребреники, это глупость какая-то, но вообще это не было темой для разговоров. Возможно, это идет еще с ранней нашей юности, с середины — конца пятидесятых. Уже стиляги кончились к этому времени как явление такое безумное, а мы были все-таки интеллектуалы, наш вызов был в том, что мы пили, курили и вели интеллектуальные разговоры до глубокой ночи. Это была наша свобода: выпивание, курение и черный кофе. Это был наш вызов обществу. Да, без выпивания не обходилось, это точно, начиная с «Трех семерок» [портвейн «777» — С. К.]. Пили и курили. Тогда еще даже не было сигарет с фильтром, были болгарские какие-то сигареты. Это вот, собственно, мое несчастье, до сих пор не могу бросить курить. Но это и была наша свобода. Потом мы обязательно ходили в какие-то рестораны, где мы плясали, гуляли. «Будапешт» был очень популярен, потому что там был знаменитый, потрясающий совершенно барабанщик. Он нас всех знал, любил, и мы все ходили к нему. И еще там была потрясающая аккордеонистка (не то Нина ее звали, не то Зина) с громадными зелеными, печальными глазами, сильно выпивающая, еврейка, кстати говоря. Изумительная совершенно женщина, которая так играла, что можно было сойти с ума. Вот мы ходили слушать их, даже не танцевать, потому что это тоже была наша свобода — вот слушать этого барабанщика и эту Нину или Зину. Обидно даже, что я не помню, как ее зовут, я ее вижу просто перед собой с этим аккордеоном, с этими громадными, печальными зелеными глазами, всегда немножко подвыпившую. И она нас очень любила, всю нашу компанию, всю нашу бражку. Из этой нашей компании, по-моему, мало кто остался в живых. Валя Аграновский уже давно умер. Боря вот еще жив, остальные, по-моему, уже все.
С. К.: Все это происходило в пятидесятые, когда у вашего поколения возникло чувство, что страна меняется; и в ситуации меняющейся страны очень понятны и осмысленны все действия: и писать статьи, и открывать клубы, — и это часть общего процесса, который, как всем кажется, приведет к тому, что станет лучше…
А. Г.: Да, это было наше большое заблуждение.
С. К.: Вот вы говорите, что это было ваше заблуждение, а в тот момент, когда в жизнь вступал я, то есть в начале восьмидесятых, у меня было как раз противоположное заблуждение: здесь никогда ничего не поменяется. И поэтому я хочу спросить уже не про шестидесятые, а про семидесятые. У вас была какая-нибудь картина будущего, модель будущего, или ее уже не было вообще?
А. Г.: Картина была абсолютно безнадежная. Я тебе скажу. Я бывала часто в Переделкино, а в это время там был Саша Свободин, Сима Соловейчик и Гребнев. И мы часто ходили там по дорожкам и разговаривали. Нам казалось, что все полная безнадега. Вот надо делать, пока мы есть, пока мы можем писать, пока нас печатают, пока можем говорить, вот сегодня, сейчас, надо делать все, что возможно.
С. К.: Зачем?
А. Г.: Чтобы дать людям дыхание какое-то. Не для того, чтобы изменить будущее. Будущее не изменится в этой стране уже никогда, полная безнадега, но чтобы люди могли дышать, чтобы они все-таки понимали, где они живут. Может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет, может, когда-нибудь они взорвут всю эту ситуацию. Я хорошо помню, что, когда умер Брежнев, опять же в том же самом Переделкино, ночью ко мне постучался Сима Соловейчик и сказал: «Алка, выходи». Я говорю: «Что случилось?» «Брежнев умер. Давай, Толя Гребнев водку принес, сейчас мы отпразднуем это дело». Вот это было чувство, что, может быть, сейчас что-нибудь изменится. Хотя ты знаешь, после этого пришел Андропов, потом Черненко, в общем, все ясно. Но вот надежда… Это ведь кощунство все-таки, потому что какой бы он ни был, но он умер, но мы-то сидели и радовались, думали: а вдруг что-то изменится.
Саша Свободин блистательно писал, Толя Гребнев делал блистательные сценарии, Сима Соловейчик был блистательным учителем и сделал, кстати говоря, в то время газету «1 сентября» — но все, что мы делали, это было «сегодня и сейчас». Такая тема у нас была — «сегодня и сейчас». Вот сейчас учить детей так, как надо, чтобы, может быть, вырастить достойное поколение, сейчас открывать глаза, сейчас давать какой-то свежий воздух, давать какое-то дыхание.Ты совершенно точно поставил вопрос. Без абсолютного ощущения, что это все работает на какое-то светлое будущее. Тема светлого будущего была исключена совершенно.
Алла Гербер: Это очень хороший вопрос, я сама много об этом думаю. Да, у всех сидели, все пережили разное, в том числе страшное, но была удивительная закваска у этого поколения… не в том, что всем нам умирать, а какого-то такого светлого детства. Вот это было у этих людей, как ни странно… у меня же тоже папа сидел, а я сохранила этот свет в окошке и это радостное восприятие жизни. Я ведь такая неистребимая оптимистка, и этот неистребимый оптимизм был у поколения, это не я только.
Это смешно, но все эти песни, все эти такие веселые пионерские лагеря… Семьи были светлые. Люди, рожденные в революцию и, по сути дела, ставшие жертвами этой революции — они несли в себе заряд этой идиотской веры, без которой не было бы послереволюционного расцвета живописи, искусства и театра. Не случайно же это были десять дней, которые потрясли мир, — и вот это потрясение люди в себе несли. Это не значит, что они что-то такое говорили, не в словах дело. Просто я помню все свое детство как абсолютный свет — ну, кроме войны, конечно. И праздники, и эти театры, и замечательные какие-то кружки, и даже пионерские сборы — все это было так весело. Да, было весело. Не было же ощущения, что это все какая-то гадость. И дело даже не в том, что мы верили в Сталина — это, кстати, меньше всего, особенно уже во взрослом возрасте, мы же, слава Богу, не дуры были и соображали, что и папа сидел, и дедушка, и все такое. Но вот что-то такое было — и пока еще ни у одного историка, ни у одного писателя не хватило сил, ума, терпения для того, чтобы сесть и спокойно понять, что это все такое было. Я думаю, это был какой-то заряд, данный 1917–1918 годами, вот этими безумными годами, и полученный нами от наших семей, наших родителей. И мы сохранили этот заряд, полученный от детства, этот заряд, эту веру. Веру в слово, веру в искусство, веру в хороших людей. Веру в то, что может быть вообще какая-то другая страна, другая планета, на которой не будет вот этого «Трудно быть Богом», которое показал Герман и которое не так откровенно и не так смертельно описали Стругацкие.
С. К.: Мне кажется, вы правильно здесь упомянули Стругацких, которые, в частности, известны своей единственной успешной советской утопией — романами про «Мир Полудня», выросшими именно из этой веры в светлое будущее. Значит ли это, что для вас существующий в жизни ужас, будь то ужас лагерей или экзистенциальный ужас, внутренне воспринимался не как перманентно присущий человеческому бытию, а как некоторый пережиток прошлого, который потом в будущем может исчезнуть, должен исчезнуть?
А. Г.: Да. Мне всегда казалось, что что-нибудь да будет. Что-нибудь да будет. Не то что все будет хорошо, но что-нибудь да будет. И еще была какая-то детская инфантильность в этом поколении. Возможно, потому что не было этой безумной борьбы за деньги, потому что возможности-то были очень ограничены, не было этого рынка. Только пойми меня правильно, избави Бог, я гайдаровский человек, я не против рынка, но это все-таки очень ожесточает людей, лишает их какого-то детства… А мы были, прямо скажем, детское поколение. Я это чувствовала всегда и в своей семье, и у своих товарищей, что мы какие-то дети. Мы как прыгали в детстве через веревочку, так и прыгали дальше…
Я же всегда зарабатывала гроши, но у меня никогда не было комплексов малообеспеченного человека. Я на эти гроши что-то умудрялась делать. У меня вечно был полный дом народа, сейчас это уже не так, к сожалению, но раньше вечно был полный дом народу.
С. К.: Я помню сам. Для меня, мальчика, молодого человека, вы как раз выглядели… я не скажу «богато», но как раз так, как и должен жить творческий человек. Иногда, может, денег нет, но когда есть, то они есть.
А. Г.: Да. Понимаешь, я не хочу сказать, что мы были бессребреники, это глупость какая-то, но вообще это не было темой для разговоров. Возможно, это идет еще с ранней нашей юности, с середины — конца пятидесятых. Уже стиляги кончились к этому времени как явление такое безумное, а мы были все-таки интеллектуалы, наш вызов был в том, что мы пили, курили и вели интеллектуальные разговоры до глубокой ночи. Это была наша свобода: выпивание, курение и черный кофе. Это был наш вызов обществу. Да, без выпивания не обходилось, это точно, начиная с «Трех семерок» [портвейн «777» — С. К.]. Пили и курили. Тогда еще даже не было сигарет с фильтром, были болгарские какие-то сигареты. Это вот, собственно, мое несчастье, до сих пор не могу бросить курить. Но это и была наша свобода. Потом мы обязательно ходили в какие-то рестораны, где мы плясали, гуляли. «Будапешт» был очень популярен, потому что там был знаменитый, потрясающий совершенно барабанщик. Он нас всех знал, любил, и мы все ходили к нему. И еще там была потрясающая аккордеонистка (не то Нина ее звали, не то Зина) с громадными зелеными, печальными глазами, сильно выпивающая, еврейка, кстати говоря. Изумительная совершенно женщина, которая так играла, что можно было сойти с ума. Вот мы ходили слушать их, даже не танцевать, потому что это тоже была наша свобода — вот слушать этого барабанщика и эту Нину или Зину. Обидно даже, что я не помню, как ее зовут, я ее вижу просто перед собой с этим аккордеоном, с этими громадными, печальными зелеными глазами, всегда немножко подвыпившую. И она нас очень любила, всю нашу компанию, всю нашу бражку. Из этой нашей компании, по-моему, мало кто остался в живых. Валя Аграновский уже давно умер. Боря вот еще жив, остальные, по-моему, уже все.
С. К.: Все это происходило в пятидесятые, когда у вашего поколения возникло чувство, что страна меняется; и в ситуации меняющейся страны очень понятны и осмысленны все действия: и писать статьи, и открывать клубы, — и это часть общего процесса, который, как всем кажется, приведет к тому, что станет лучше…
А. Г.: Да, это было наше большое заблуждение.
С. К.: Вот вы говорите, что это было ваше заблуждение, а в тот момент, когда в жизнь вступал я, то есть в начале восьмидесятых, у меня было как раз противоположное заблуждение: здесь никогда ничего не поменяется. И поэтому я хочу спросить уже не про шестидесятые, а про семидесятые. У вас была какая-нибудь картина будущего, модель будущего, или ее уже не было вообще?
А. Г.: Картина была абсолютно безнадежная. Я тебе скажу. Я бывала часто в Переделкино, а в это время там был Саша Свободин, Сима Соловейчик и Гребнев. И мы часто ходили там по дорожкам и разговаривали. Нам казалось, что все полная безнадега. Вот надо делать, пока мы есть, пока мы можем писать, пока нас печатают, пока можем говорить, вот сегодня, сейчас, надо делать все, что возможно.
С. К.: Зачем?
А. Г.: Чтобы дать людям дыхание какое-то. Не для того, чтобы изменить будущее. Будущее не изменится в этой стране уже никогда, полная безнадега, но чтобы люди могли дышать, чтобы они все-таки понимали, где они живут. Может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет, может, когда-нибудь они взорвут всю эту ситуацию. Я хорошо помню, что, когда умер Брежнев, опять же в том же самом Переделкино, ночью ко мне постучался Сима Соловейчик и сказал: «Алка, выходи». Я говорю: «Что случилось?» «Брежнев умер. Давай, Толя Гребнев водку принес, сейчас мы отпразднуем это дело». Вот это было чувство, что, может быть, сейчас что-нибудь изменится. Хотя ты знаешь, после этого пришел Андропов, потом Черненко, в общем, все ясно. Но вот надежда… Это ведь кощунство все-таки, потому что какой бы он ни был, но он умер, но мы-то сидели и радовались, думали: а вдруг что-то изменится.
Саша Свободин блистательно писал, Толя Гребнев делал блистательные сценарии, Сима Соловейчик был блистательным учителем и сделал, кстати говоря, в то время газету «1 сентября» — но все, что мы делали, это было «сегодня и сейчас». Такая тема у нас была — «сегодня и сейчас». Вот сейчас учить детей так, как надо, чтобы, может быть, вырастить достойное поколение, сейчас открывать глаза, сейчас давать какой-то свежий воздух, давать какое-то дыхание.Ты совершенно точно поставил вопрос. Без абсолютного ощущения, что это все работает на какое-то светлое будущее. Тема светлого будущего была исключена совершенно.
С. К.: Это страшно, потому что это совершенно сегодняшнее. То, что люди продолжают что-то делать с ощущением, что будущего в этой стране нет, мне кажется страшно интересным как такой повторяющийся для России мотив. Нет, например, убеждения, что вот мы поработаем, а оно как-нибудь само медленно поменяется, — а есть ощущение, что эта страна навсегда обречена, но раз мы тут оказались, будем пытаться что-то здесь делать.
А. Г.: Раз мы здесь живем, мы же не можем просто здесь жить. Мы же должны что-то делать! Нашей темой было дело, желание что-то сделать, что-то успеть сделать, что-то успеть сказать, что-то успеть написать, кинуть какую-то каплю света в эту тьму. Это да, это было всегда темой. И у меня, и у тех, кто был со мной рядом, других же не было рядом со мной. Мы собирались вместе: они шли по зову моей души, а я — по зову их. Не случайно же Феликс Кузнецов не остался моим товарищем… А у нас всех, у нас был какой-то азарт, азарт дела. Я очень тоже хорошо помню, как когда-то в семидесятые я, Арканов, Горин и Марк Розовский в Переделкино пошли на кладбище и там у могилы Пастернака стали говорить, не надо ли уезжать. Это, кстати, была постоянная тема: «Может быть, надо уехать». И тем не менее все эти люди, вот мы, которые говорили, что, может быть, надо уехать, но мы же не уехали, мы и представить себе не могли, что мы уедем. Ну не могли! Не мог Гриша Горин, который поднял этот вопрос и стал с нами обсуждать, поверить, что он уедет. Ну куда он уедет от своего театра, от своего «Ленкома»? Сколько Гриша сделал замечательного в это самое смутное время. И Аркан, и все-все. Это удивительное было время, такой был свет во время тьмы. И люди были замечательные.
С. К.: Мы чуть раньше говорили про оптимизм шестидесятников, и я вспомнил, что, в общем-то, поколение американских шестидесятников было таким же оптимистичным. Да и вообще, когда задним числом смотришь на эту эпоху, понятно, что это была великая эпоха во всем мире. Были Америка, Франция, Прага, Россия — все по-разному, но как-то оно все кипело. И вот я хотел спросить: насколько в тот момент вы ощущали себя одним поколением?
А. Г.: Нет, нет, это чувство пришло потом. А в то время, наоборот, было обратное ощущение, что мы не дотягиваем до того поколения. Мы в какой-то степени были частью, но мы не дотягивали. Что, мы дотянули до хиппи, дотянули до французских студентов?
С. К.: Ну, у вас была другая отправная точка, тут сложно сравнивать. Но вы вообще знали, что там творится во Франции или Калифорнии?
А. Г.: Естественно! Естественно, мы знали. Я не могу тебе сказать, откуда… Ну, например, мы все видели фильм «Blow up» — и как раз я помню наши мысли, что до чего же мы все-таки отставали в том возрасте, в каком там ребята, герои этого фильма. И все время было какое-то чувство зависти — и к ним, и к французским студентам. У меня было точное ощущение, что мы — абсолютно не они.
С. К.: При этом отношение к парижскому маю 1968 года было же очень разным. Я помню язвительное стихотворение Коржавина, что пусть к ним едет советская власть, потому что они все левые, а мы все как-то этого уже наелись. А вы это как воспринимали?
А. Г.: Ну, вот не так, как Коржавин, это уж точно. Для нас во всем этом прежде всего была свобода, мы воспринимали это как выход, как возможность себя проявить, а что за этим — левые или правые, средние — совершенно это не играло никакой роли. Восхищал сам факт свободы, а какая там была идеология, было неважно. Я не могу сказать, что в хиппи нас восхищало, что они против капитала, власти денег и т. д., но было важно то, что они были против, и то, что это было настоящее движение, что они могли так о себе заявить. Не так важен был для нас смысл, против чего они там, как само явление протеста. Это я помню очень хорошо. Потому что тут левые, там правые, тут средние — важно, что это в свободной стране, где можно себя проявлять и волеизъявлять.
С. К.: И для Европы, и для Америки в шестидесятые были важны и тема сексуальной революции, и тема психоделической революции. Что у нас было с этим в России?
А. Г.: Совершенно ничего. Что касается сексуальной революции, то, может быть, в семидесятые, когда я была уже не совсем молодая, это и было. Может быть, восемнадцатилетних, двадцатилетних, их это как-то волновало больше, чем наше поколение, а вот тех, о ком мы с тобой говорим, я думаю, эта тема уже не особо волновала, мы через это как-то тихо и спокойно прошли. Это была не наша цель, а у молодежи, может, она и была. Я думаю, что да. Когда появились первые сведения об этих хиппарях, то, я думаю, тема сексуальной революции совсем молодых взволновала.
С. К.: Было ли различие между сексуальным поведением вашего поколения и условно поколения ваших родителей?
А. Г.: Я так скажу — наше поколение хотело быть очень свободным, но не знало, как это делается. И в нашем-то поколении, это ты и по Васькиным романам понимаешь [разумеется, имеются в виду романы Василия Аксенова — С. К.], наша свобода была — сигареты, выпивание, романы, поездки: Эстония, Литва, Латвия. Романы, романы обязательно, романы мы крутили до бесконечности. Это точно, это я могу тебе сказать, это наша свобода. Это был наш вызов. Я очень хорошо помню, что даже когда мы «Факел» затевали, то мы ездили в «Зеленый сад», в ресторан «Прага» на свои нищие деньги, мы там брали кофе, курили, и вообще у нас был такой заговор — мы клуб открывали, значит, обязательно это сопровождалось кофе, курением и романами, конечно, по ходу дела. Это была такая свобода, да, осознанная, а не просто так было, что я закурила, — нет, это был вызов. Я помню очень хорошо, у нас в институте все курили, все пили.
С. К.: А предыдущее поколение тоже курило и пило, нет?
А. Г.: Мне кажется, не так. И мы, конечно, совсем по-другому танцевали. Была же история, когда еще в институте меня даже выгоняли из комсомола за рок-н-ролл. Я танцевала рок, очень хорошо танцевала, и у меня однажды была такая смешная история. Был такой Гена, с которым у меня никакого романа не было, и вообще я была святая девушка, но он для меня существовал как партнер по танцам. Он приходил ко мне домой в нашу восемнадцатиметровую комнату, бабушку я просила уйти на кухню, и мы с ним репетировали. А соседка тетя Роза говорила: «Вы знаете, чем они там занимаются?» Бабушка говорила: «Знаю-знаю, танцуют». «Да, таки танцуют? Вы так уверены в этом? Вы так самоуверенны».
И вот, мы с ним вышли на сцену, а у меня было такое платье все в кнопках, такое вишневое, очень красивое платье. Мы с ним танцуем, и вдруг все эти кнопки расстегнулись, представляешь зрелище? Короче говоря, кто-то был на этом вечере из «Крокодила» и описал фельетон про то, как я разлагаюсь, под названием «Сбацаем фоксик, Аллочка». Почему фоксик, когда это был рок, я не знаю, я даже обиделась, какой там фоксик. После чего было комсомольское собрание и меня хотели вышвырнуть из комсомола, но все-таки не вышвырнули.
А что касается свободы поведения, то у нас все-таки был свой кумир, свой лидер. Не кумир, слова такого тогда не было, но в какой-то степени все-таки лидер был — это был Вася Аксенов, и его образ жизни нам всем безумно нравился, все старались в какой-то степени так жить. Вот Васька был свободен донельзя.
С. К.: И он тоже был оптимистичен? Несмотря на то, что его детство было довольно тяжелым.
А. Г.: Но все равно, да. Я очень хорошо помню, когда мы оказались вместе в доме творчества, я поехала писать что-то, и Вася там тоже сидел, что-то писал, и еще там был Стасик Красавин, и мы ходили каждый вечер в маленький ресторанчик, где какой-то совершенно замечательный певец и одновременно тапер, уже пожилой человек, играл нам и пел всякие прекрасные песни. И это был праздник, это было такое счастье! Мы ходили в этот ресторан. И не было в этом тоски. Вася же как раз из тех, кто очень любил жизнь. Вообще, я думаю, это поколение очень отличается одной большой любовью — любовью к жизни. Поэтому, кстати говоря, не случайно, ну если не брать Гену Шпаликова, у которого уже очень много было алкоголя, то, в общем, никто из людей этого поколения жизнь самоубийством не кончал, несмотря на все сложности, трудности и т. д. Какая-то была вот эта любовь к жизни. Вот такая мелочь, как мы ходили в этот ресторан, какой-то был прямо праздник, из всего делали праздник. Как мой папа говорил: «Не знаю, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место празднику». Так что вот это ощущение жизни как праздника было у всех. А говоря про Васю, ну, между прочим, что бы там ни было, у него же все, кроме «Острова Крыма» и «Ожога», напечатали.
С. К.: Но при этом ведь были совсем андеграундные люди: Довлатов, которого не печатали вообще никогда, и Бродский, у которого было два стихотворения напечатано, множество других поэтов. Скажем, Питер, в отличие от Москвы, был наполнен людьми, которых не печатали.
А. Г.: Да, это правда. Немножко там было по-другому. Хотя я была очень хорошо знакома с Илюшкой Авербахом, и он-то меня и познакомил с Бродским, уже после его ссылки… Я была знакома и с Мишей Кулаковым, у меня с ним был роман, вот, до сих пор его картина висит у меня. Они, конечно, были другие, тот же Бродский пережил эту высылку, у него уже был другой опыт, но все равно он был жутко веселым. Когда он приезжал в Москву, были эти пьянки-гулянки, он был заводилой. Все равно это было детское поколение. Вот Илья Авербах, серьезнейший же режиссер, человек с таким своим надломом, но все равно он был светлый человек. Это поколение все равно было светлым. В чем тут дело, откуда этот заряд светлости такой? Не знаю.
С. К.: Мне хочется спросить про границы того поколения, того чувства оптимистичного, о котором мы говорим. Я хорошо представляю то, что является каноническим ядром шестидесятников. А где относительно вас находились, например, лианозовцы? Вот все эти люди были совсем отдельно, или они были совсем рядом?
А. Г.: Нет, они не были отдельно. Они были в нашей жизни.
С. К.: При этом они выглядят (опять же ретроспективно) как раз людьми гораздо более пессимистичными, гораздо более мрачными.
А. Г.: Ты прав. Они да, наверное. Они же все-таки были, как говорится, люди подвалов, они были андеграундом, но мы друг другу были необходимы. Мы, которые как бы жили на поверхности и не были андеграундом, мы им были необходимы как те, кому все это показывали и которых они поражали, и мы ими восхищались. Они нам были необходимы для того, чтобы мы могли к ним спускаться в их андеграунд и тем самым подняться.
С. К.: Я вот сейчас подумал: не может быть так, что вот это попадание в подвал или туда, где были вы, во многом могло не быть сознательным выбором, быть связано не с социальным, не с идеологическим, а с чисто эмоциональным настроем?
А. Г.: Да, абсолютно верно. Чисто эмоционально. То есть у нас не было такой мрачности, как у них, но мы вообще старались все время как-то поддерживать друг друга, быть вместе. Я помню, когда мы Эрзу спасали, его же тоже не выпускали здесь, не принимали. Он приехал, в подвале хранились его работы, ему не давали здесь возможности жить и т. д. И вот мы ходили, я и еще несколько человек были инициаторами, что надо создать такой комитет по спасению Эрзы, вот мы его создали. По-моему, я это первая сказала. Или кто-то еще, сейчас уже не помню.
С. К.: Но вы все-таки не стали диссидентом?
А. Г.: Да, я вообще не была ни активистом, ни борцом — я была критиком, журналистом, хотя и знала некоторых диссидентов, скажем, Орлова. У меня был роман с одним человеком, физиком, который хорошо знал Орлова, Орлов бывал у него в доме. И он меня зазывал в диссидентство, и я бы, конечно, пошла, я же комиссар в юбке и кожанке, но меня держал мой сын, Сашка. Я понимала, что если меня арестуют, то что тогда с ним вообще будет? И мама болела, и все такое, а я была единственным кормильцем. Поэтому я как-то от всего этого диссидентства держалась на некоторой дистанции. Но я помню хорошо, когда были чешские события, мы с этим моим другом, с Олегом, у нас было очень много книг, потому что Орлов ему давал всякие книги диссидентские, и я помню, как мы ходили всю ночь и эти книги во всякие мусорные баки опускали, потому что мы считали, что так как Орлов часто бывал в доме Олега, нас всех сейчас арестуют. Так что я напрямую в диссидентство тогда не пошла, конечно. Но я была очень близка. И я помню эти разговоры с Юрой Орловым долгие-долгие ночные. Но тем не менее я думаю, что я сделала правильно, а может… не знаю.
А. Г.: Раз мы здесь живем, мы же не можем просто здесь жить. Мы же должны что-то делать! Нашей темой было дело, желание что-то сделать, что-то успеть сделать, что-то успеть сказать, что-то успеть написать, кинуть какую-то каплю света в эту тьму. Это да, это было всегда темой. И у меня, и у тех, кто был со мной рядом, других же не было рядом со мной. Мы собирались вместе: они шли по зову моей души, а я — по зову их. Не случайно же Феликс Кузнецов не остался моим товарищем… А у нас всех, у нас был какой-то азарт, азарт дела. Я очень тоже хорошо помню, как когда-то в семидесятые я, Арканов, Горин и Марк Розовский в Переделкино пошли на кладбище и там у могилы Пастернака стали говорить, не надо ли уезжать. Это, кстати, была постоянная тема: «Может быть, надо уехать». И тем не менее все эти люди, вот мы, которые говорили, что, может быть, надо уехать, но мы же не уехали, мы и представить себе не могли, что мы уедем. Ну не могли! Не мог Гриша Горин, который поднял этот вопрос и стал с нами обсуждать, поверить, что он уедет. Ну куда он уедет от своего театра, от своего «Ленкома»? Сколько Гриша сделал замечательного в это самое смутное время. И Аркан, и все-все. Это удивительное было время, такой был свет во время тьмы. И люди были замечательные.
С. К.: Мы чуть раньше говорили про оптимизм шестидесятников, и я вспомнил, что, в общем-то, поколение американских шестидесятников было таким же оптимистичным. Да и вообще, когда задним числом смотришь на эту эпоху, понятно, что это была великая эпоха во всем мире. Были Америка, Франция, Прага, Россия — все по-разному, но как-то оно все кипело. И вот я хотел спросить: насколько в тот момент вы ощущали себя одним поколением?
А. Г.: Нет, нет, это чувство пришло потом. А в то время, наоборот, было обратное ощущение, что мы не дотягиваем до того поколения. Мы в какой-то степени были частью, но мы не дотягивали. Что, мы дотянули до хиппи, дотянули до французских студентов?
С. К.: Ну, у вас была другая отправная точка, тут сложно сравнивать. Но вы вообще знали, что там творится во Франции или Калифорнии?
А. Г.: Естественно! Естественно, мы знали. Я не могу тебе сказать, откуда… Ну, например, мы все видели фильм «Blow up» — и как раз я помню наши мысли, что до чего же мы все-таки отставали в том возрасте, в каком там ребята, герои этого фильма. И все время было какое-то чувство зависти — и к ним, и к французским студентам. У меня было точное ощущение, что мы — абсолютно не они.
С. К.: При этом отношение к парижскому маю 1968 года было же очень разным. Я помню язвительное стихотворение Коржавина, что пусть к ним едет советская власть, потому что они все левые, а мы все как-то этого уже наелись. А вы это как воспринимали?
А. Г.: Ну, вот не так, как Коржавин, это уж точно. Для нас во всем этом прежде всего была свобода, мы воспринимали это как выход, как возможность себя проявить, а что за этим — левые или правые, средние — совершенно это не играло никакой роли. Восхищал сам факт свободы, а какая там была идеология, было неважно. Я не могу сказать, что в хиппи нас восхищало, что они против капитала, власти денег и т. д., но было важно то, что они были против, и то, что это было настоящее движение, что они могли так о себе заявить. Не так важен был для нас смысл, против чего они там, как само явление протеста. Это я помню очень хорошо. Потому что тут левые, там правые, тут средние — важно, что это в свободной стране, где можно себя проявлять и волеизъявлять.
С. К.: И для Европы, и для Америки в шестидесятые были важны и тема сексуальной революции, и тема психоделической революции. Что у нас было с этим в России?
А. Г.: Совершенно ничего. Что касается сексуальной революции, то, может быть, в семидесятые, когда я была уже не совсем молодая, это и было. Может быть, восемнадцатилетних, двадцатилетних, их это как-то волновало больше, чем наше поколение, а вот тех, о ком мы с тобой говорим, я думаю, эта тема уже не особо волновала, мы через это как-то тихо и спокойно прошли. Это была не наша цель, а у молодежи, может, она и была. Я думаю, что да. Когда появились первые сведения об этих хиппарях, то, я думаю, тема сексуальной революции совсем молодых взволновала.
С. К.: Было ли различие между сексуальным поведением вашего поколения и условно поколения ваших родителей?
А. Г.: Я так скажу — наше поколение хотело быть очень свободным, но не знало, как это делается. И в нашем-то поколении, это ты и по Васькиным романам понимаешь [разумеется, имеются в виду романы Василия Аксенова — С. К.], наша свобода была — сигареты, выпивание, романы, поездки: Эстония, Литва, Латвия. Романы, романы обязательно, романы мы крутили до бесконечности. Это точно, это я могу тебе сказать, это наша свобода. Это был наш вызов. Я очень хорошо помню, что даже когда мы «Факел» затевали, то мы ездили в «Зеленый сад», в ресторан «Прага» на свои нищие деньги, мы там брали кофе, курили, и вообще у нас был такой заговор — мы клуб открывали, значит, обязательно это сопровождалось кофе, курением и романами, конечно, по ходу дела. Это была такая свобода, да, осознанная, а не просто так было, что я закурила, — нет, это был вызов. Я помню очень хорошо, у нас в институте все курили, все пили.
С. К.: А предыдущее поколение тоже курило и пило, нет?
А. Г.: Мне кажется, не так. И мы, конечно, совсем по-другому танцевали. Была же история, когда еще в институте меня даже выгоняли из комсомола за рок-н-ролл. Я танцевала рок, очень хорошо танцевала, и у меня однажды была такая смешная история. Был такой Гена, с которым у меня никакого романа не было, и вообще я была святая девушка, но он для меня существовал как партнер по танцам. Он приходил ко мне домой в нашу восемнадцатиметровую комнату, бабушку я просила уйти на кухню, и мы с ним репетировали. А соседка тетя Роза говорила: «Вы знаете, чем они там занимаются?» Бабушка говорила: «Знаю-знаю, танцуют». «Да, таки танцуют? Вы так уверены в этом? Вы так самоуверенны».
И вот, мы с ним вышли на сцену, а у меня было такое платье все в кнопках, такое вишневое, очень красивое платье. Мы с ним танцуем, и вдруг все эти кнопки расстегнулись, представляешь зрелище? Короче говоря, кто-то был на этом вечере из «Крокодила» и описал фельетон про то, как я разлагаюсь, под названием «Сбацаем фоксик, Аллочка». Почему фоксик, когда это был рок, я не знаю, я даже обиделась, какой там фоксик. После чего было комсомольское собрание и меня хотели вышвырнуть из комсомола, но все-таки не вышвырнули.
А что касается свободы поведения, то у нас все-таки был свой кумир, свой лидер. Не кумир, слова такого тогда не было, но в какой-то степени все-таки лидер был — это был Вася Аксенов, и его образ жизни нам всем безумно нравился, все старались в какой-то степени так жить. Вот Васька был свободен донельзя.
С. К.: И он тоже был оптимистичен? Несмотря на то, что его детство было довольно тяжелым.
А. Г.: Но все равно, да. Я очень хорошо помню, когда мы оказались вместе в доме творчества, я поехала писать что-то, и Вася там тоже сидел, что-то писал, и еще там был Стасик Красавин, и мы ходили каждый вечер в маленький ресторанчик, где какой-то совершенно замечательный певец и одновременно тапер, уже пожилой человек, играл нам и пел всякие прекрасные песни. И это был праздник, это было такое счастье! Мы ходили в этот ресторан. И не было в этом тоски. Вася же как раз из тех, кто очень любил жизнь. Вообще, я думаю, это поколение очень отличается одной большой любовью — любовью к жизни. Поэтому, кстати говоря, не случайно, ну если не брать Гену Шпаликова, у которого уже очень много было алкоголя, то, в общем, никто из людей этого поколения жизнь самоубийством не кончал, несмотря на все сложности, трудности и т. д. Какая-то была вот эта любовь к жизни. Вот такая мелочь, как мы ходили в этот ресторан, какой-то был прямо праздник, из всего делали праздник. Как мой папа говорил: «Не знаю, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место празднику». Так что вот это ощущение жизни как праздника было у всех. А говоря про Васю, ну, между прочим, что бы там ни было, у него же все, кроме «Острова Крыма» и «Ожога», напечатали.
С. К.: Но при этом ведь были совсем андеграундные люди: Довлатов, которого не печатали вообще никогда, и Бродский, у которого было два стихотворения напечатано, множество других поэтов. Скажем, Питер, в отличие от Москвы, был наполнен людьми, которых не печатали.
А. Г.: Да, это правда. Немножко там было по-другому. Хотя я была очень хорошо знакома с Илюшкой Авербахом, и он-то меня и познакомил с Бродским, уже после его ссылки… Я была знакома и с Мишей Кулаковым, у меня с ним был роман, вот, до сих пор его картина висит у меня. Они, конечно, были другие, тот же Бродский пережил эту высылку, у него уже был другой опыт, но все равно он был жутко веселым. Когда он приезжал в Москву, были эти пьянки-гулянки, он был заводилой. Все равно это было детское поколение. Вот Илья Авербах, серьезнейший же режиссер, человек с таким своим надломом, но все равно он был светлый человек. Это поколение все равно было светлым. В чем тут дело, откуда этот заряд светлости такой? Не знаю.
С. К.: Мне хочется спросить про границы того поколения, того чувства оптимистичного, о котором мы говорим. Я хорошо представляю то, что является каноническим ядром шестидесятников. А где относительно вас находились, например, лианозовцы? Вот все эти люди были совсем отдельно, или они были совсем рядом?
А. Г.: Нет, они не были отдельно. Они были в нашей жизни.
С. К.: При этом они выглядят (опять же ретроспективно) как раз людьми гораздо более пессимистичными, гораздо более мрачными.
А. Г.: Ты прав. Они да, наверное. Они же все-таки были, как говорится, люди подвалов, они были андеграундом, но мы друг другу были необходимы. Мы, которые как бы жили на поверхности и не были андеграундом, мы им были необходимы как те, кому все это показывали и которых они поражали, и мы ими восхищались. Они нам были необходимы для того, чтобы мы могли к ним спускаться в их андеграунд и тем самым подняться.
С. К.: Я вот сейчас подумал: не может быть так, что вот это попадание в подвал или туда, где были вы, во многом могло не быть сознательным выбором, быть связано не с социальным, не с идеологическим, а с чисто эмоциональным настроем?
А. Г.: Да, абсолютно верно. Чисто эмоционально. То есть у нас не было такой мрачности, как у них, но мы вообще старались все время как-то поддерживать друг друга, быть вместе. Я помню, когда мы Эрзу спасали, его же тоже не выпускали здесь, не принимали. Он приехал, в подвале хранились его работы, ему не давали здесь возможности жить и т. д. И вот мы ходили, я и еще несколько человек были инициаторами, что надо создать такой комитет по спасению Эрзы, вот мы его создали. По-моему, я это первая сказала. Или кто-то еще, сейчас уже не помню.
С. К.: Но вы все-таки не стали диссидентом?
А. Г.: Да, я вообще не была ни активистом, ни борцом — я была критиком, журналистом, хотя и знала некоторых диссидентов, скажем, Орлова. У меня был роман с одним человеком, физиком, который хорошо знал Орлова, Орлов бывал у него в доме. И он меня зазывал в диссидентство, и я бы, конечно, пошла, я же комиссар в юбке и кожанке, но меня держал мой сын, Сашка. Я понимала, что если меня арестуют, то что тогда с ним вообще будет? И мама болела, и все такое, а я была единственным кормильцем. Поэтому я как-то от всего этого диссидентства держалась на некоторой дистанции. Но я помню хорошо, когда были чешские события, мы с этим моим другом, с Олегом, у нас было очень много книг, потому что Орлов ему давал всякие книги диссидентские, и я помню, как мы ходили всю ночь и эти книги во всякие мусорные баки опускали, потому что мы считали, что так как Орлов часто бывал в доме Олега, нас всех сейчас арестуют. Так что я напрямую в диссидентство тогда не пошла, конечно. Но я была очень близка. И я помню эти разговоры с Юрой Орловым долгие-долгие ночные. Но тем не менее я думаю, что я сделала правильно, а может… не знаю.
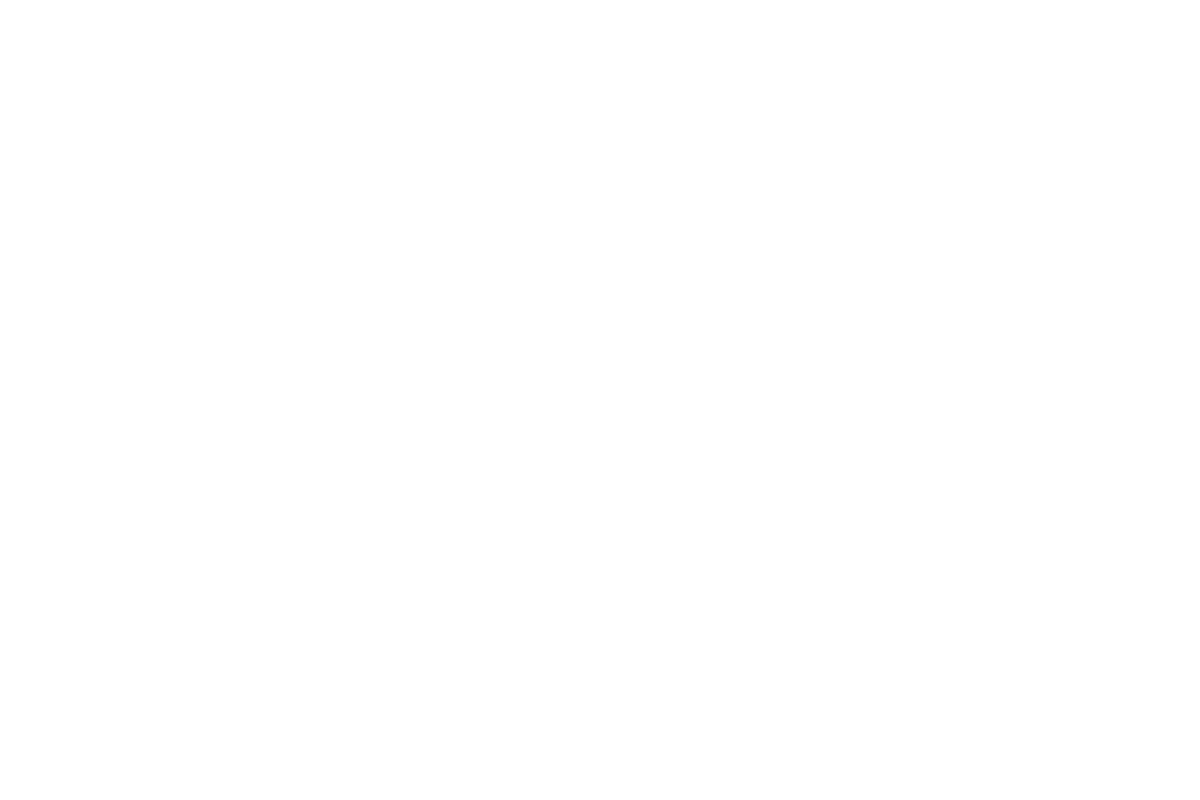
С. К.: В воспоминаниях Ильи Кабакова приведен любопытный график, который он сам нарисовал — речь идет о том, как по годам менялось чувство страха в его кругу в шестидесятые-семидесятые. Странная идея измерять страх по шкале, но вот вы рассказывали, как в августе 1968-го вы выкидывали книжки по мусорным бакам, и понятно, что это был вполне страшный момент. Насколько у вас чувство страха менялось со временем?
А. Г.: Его совершенно не было в шестидесятые, в начале всего этого. Все совпало, совпала, собственно, юность, совпало ощущение того, что вырвались, все совпало. Мне безумно повезло. Мне повезло, что я в «Юность» попала, мне повезло, что я была в такой компании замечательных людей. Мне очень повезло. Я вообще считаю, что я страшно везучая. Страх появился, когда все стало кончаться и пошла брежневщина. Тогда появился не страх, а какое-то внутреннее уныние. И вот эта радость жизни, вот это «В жизни всегда есть место празднику» — оно кончилось, точнее, даже не кончилось, но стало затухать. А настоящий страх появился уже после чешских событий. Оказалось, что все возможно. Вот если это возможно, то все возможно. Вот пик был, когда мы книжки по урнам разносили. Я помню это очень хорошо, это было ужасно. А главная моя мысль: что будет с Сашей. Вообще дальше появились какие-то такие мысли, что, может быть, надо уезжать, потому что здесь душно, здесь опасно; но тем не менее стоило мне только выехать из Москвы, как я себя чувствовала на коне, чувствовала, что я сею разумное, доброе, вечное. А я как раз в конце шестидесятых — начале семидесятых много ездила. Вот эти поездки меня, кстати, очень поддерживали, до сих пор поддерживают. Ну, ты помнишь, я рассказывала, как мы в Переделкино обсуждали, стоит ли уезжать…
С. К.: А кстати, давайте поговорим про Переделкино, про дома творчества. Ведь это же для нынешнего поколения совершенно невозможная ситуация безбедного существования, когда ты живешь в комфорте фактически бесплатно. Но, с другой стороны, я думаю, это же было так же невозможно и тогда для таких людей, как лианозовцы или как люди круга Довлатова, Бродского.
А. Г.: Ну да. Не знаю, может быть, они ездили в Репино. Не знаю, потому что я туда не ездила.
С. К.: А как вообще попадали в дома творчества?
А. Г.: Да очень просто, мы же все были членами Литфонда, даже те, кто не был членом Союза писателей. Приходили, брали путевку, довольно дешевую, все это было вполне реально и возможно. Поначалу это было очень смешно.
Когда приезжаешь, то большие чины селили только на верхние этажи, а нас, которые поскромнее, на четвертый, третий, второй. Такая тоже была субординация. Туда ездили писать и общаться. Я помню, в Переделкино у нас целые вечера на втором этаже там сидели, там Толя Гребнев, Мишка Козаков, Лиходеев, Арсений Тарковский. Я передать не могу, сколько там было настоящих людей! И вот эти вечерние посиделки незабываемы совершенно.
Мы обязательно все ездили в эти дома творчества. Все, что я такого большого написала — это все в домах творчества. Ну, потому что туда и едешь писать, а главное, вечером пообщаться. Обычно выбирали столы, с кем сидеть, чтобы поближе со своими. Целая была культура проживания в этих домах творчества. Все их любили. Обязательно летом, зимой обязательно, обязательно в Малеевку на мартовские лыжи, тоже сколько лет подряд. И все там были, и все жили в этих домах. А больше куда особенно можно было поехать? Летом Коктебель, конечно, обязательно, это наша родина вторая для всех, целая отдельная жизнь. Так что неслучайно и «Остров Крым», и Васина последняя книжка, где только про Коктебель. Кстати говоря, там описано, как Васю, Роберта и одну девушку повели в милицию, — так вот девушка, которая с ними была, это была я. Он там пишет «девушка», но кто это был, он не вспомнил.
С. К.: А за что вы попали в милицию?
А. Г.: За шорты. Вот это тоже была наша демонстрация свободы — ходить в шортах, когда это было нельзя. В Коктебеле запретили ходить в шортах. На берегу моря. Это подумать только. Это себе представить невозможно. А мы борцы, наша борьба, наша революция — это ходить в шортах. Это был, по-моему, год семидесятый. Там открыли коктейль-бары очень симпатичные, но потом их все прикрыли. И шорты запретили. Какой-то хозяин туда приехал. Тогда Владик Бахнов написал эту знаменитую песню на моих глазах: «Ах, что за чудная земля / вокруг залива Коктебля: / Колхозы, бля, совхозы, бля, природа! / Но портят эту красоту / Сюда приехавшие ту / неядцы, бля, моральные уроды!»
С. К.: Да, мы ее знали, она ушла в фольклор, и, конечно, считалось, что это Ким.
А. Г.: Нет, это Владик Бахнов. Ким написал другую: «На мужском пустынном пляже / Предположим, утром ляжет / Наш дорогой Мирзо Турсун-заде. / Он лежит и в ус не дует, / И «заде» свое «турсует», / Попивая коньячок или алиготе!» Вот это Ким, а про чудную землю — это был Владик. Появилась статья в «Культуре» о том, как разлагается Коктебель: ходят в шортах, пьют коктейли и т. д. Там же замечательно: «Пусть говорят, что я свою / Для денег написал статью, / Не верьте, бля, не верьте, бля, не верьте! / Нет, я писал не для рубля, / А потому что был я бля, / И есть я бля, и буду бля до смерти!» Мы все распевали хором человек сорок в этом Коктебеле, когда Владик это принес. Он исчез в туалет, мы еще его жену спрашиваем: «Куда Владик делся?», она говорит: «Да не знаю, куда-то пошел, в туалет, наверное». Пришел из туалета и принес эту песню. Мы стали ее все петь как сумасшедшие. Вторая песня, которую мы распевали хором человек тридцать-сорок, а то и пятьдесят, — «Мир победит, победит войну». С. К.: А это кто написал? А. Г.: Это я не знаю, это пришла, и мы все орали. Много чего там было. А также Владик меня замечательно прозвал Алка-голь. Я ходила вся в бикини, была очень худенькая, вполне себе ничего, и много выпивала, как и все, поэтому он прозвал меня Алка-голь. Веселое было поколение. Я не знаю, что же это такое было, ничего не понимаю. Все столько пережили, у всех сидели отцы. А вот когда собирались своей шарагой, шайкой-лейкой, то очень все веселились. Мы столько хохотали. Я не знаю, сколько смеха мы вообще из себя выдавили. Не выдавили, а как сказать? С. К.: Выплеснули.
А. Г.: Выплеснули. Хохотали, пили, гуляли, романились, естественно, все то же самое. Все работали, все писали много. Это же не было просто так — приехал и деньги потратил. Мы все писали, дико много печатались, сколько я статей написала, сколько книг. Все работали. Еще читали, собирались и читали там. А еще очень любили, естественно, собираться и петь Окуджаву, это уже само собой. Сейчас же ничего этого не будет, это невозможно себе даже представить, что люди, которым там было за тридцать уже, сидели и пели бесконечно Окуджаву, «Мир победит войну» и т. д.
А. Г.: Его совершенно не было в шестидесятые, в начале всего этого. Все совпало, совпала, собственно, юность, совпало ощущение того, что вырвались, все совпало. Мне безумно повезло. Мне повезло, что я в «Юность» попала, мне повезло, что я была в такой компании замечательных людей. Мне очень повезло. Я вообще считаю, что я страшно везучая. Страх появился, когда все стало кончаться и пошла брежневщина. Тогда появился не страх, а какое-то внутреннее уныние. И вот эта радость жизни, вот это «В жизни всегда есть место празднику» — оно кончилось, точнее, даже не кончилось, но стало затухать. А настоящий страх появился уже после чешских событий. Оказалось, что все возможно. Вот если это возможно, то все возможно. Вот пик был, когда мы книжки по урнам разносили. Я помню это очень хорошо, это было ужасно. А главная моя мысль: что будет с Сашей. Вообще дальше появились какие-то такие мысли, что, может быть, надо уезжать, потому что здесь душно, здесь опасно; но тем не менее стоило мне только выехать из Москвы, как я себя чувствовала на коне, чувствовала, что я сею разумное, доброе, вечное. А я как раз в конце шестидесятых — начале семидесятых много ездила. Вот эти поездки меня, кстати, очень поддерживали, до сих пор поддерживают. Ну, ты помнишь, я рассказывала, как мы в Переделкино обсуждали, стоит ли уезжать…
С. К.: А кстати, давайте поговорим про Переделкино, про дома творчества. Ведь это же для нынешнего поколения совершенно невозможная ситуация безбедного существования, когда ты живешь в комфорте фактически бесплатно. Но, с другой стороны, я думаю, это же было так же невозможно и тогда для таких людей, как лианозовцы или как люди круга Довлатова, Бродского.
А. Г.: Ну да. Не знаю, может быть, они ездили в Репино. Не знаю, потому что я туда не ездила.
С. К.: А как вообще попадали в дома творчества?
А. Г.: Да очень просто, мы же все были членами Литфонда, даже те, кто не был членом Союза писателей. Приходили, брали путевку, довольно дешевую, все это было вполне реально и возможно. Поначалу это было очень смешно.
Когда приезжаешь, то большие чины селили только на верхние этажи, а нас, которые поскромнее, на четвертый, третий, второй. Такая тоже была субординация. Туда ездили писать и общаться. Я помню, в Переделкино у нас целые вечера на втором этаже там сидели, там Толя Гребнев, Мишка Козаков, Лиходеев, Арсений Тарковский. Я передать не могу, сколько там было настоящих людей! И вот эти вечерние посиделки незабываемы совершенно.
Мы обязательно все ездили в эти дома творчества. Все, что я такого большого написала — это все в домах творчества. Ну, потому что туда и едешь писать, а главное, вечером пообщаться. Обычно выбирали столы, с кем сидеть, чтобы поближе со своими. Целая была культура проживания в этих домах творчества. Все их любили. Обязательно летом, зимой обязательно, обязательно в Малеевку на мартовские лыжи, тоже сколько лет подряд. И все там были, и все жили в этих домах. А больше куда особенно можно было поехать? Летом Коктебель, конечно, обязательно, это наша родина вторая для всех, целая отдельная жизнь. Так что неслучайно и «Остров Крым», и Васина последняя книжка, где только про Коктебель. Кстати говоря, там описано, как Васю, Роберта и одну девушку повели в милицию, — так вот девушка, которая с ними была, это была я. Он там пишет «девушка», но кто это был, он не вспомнил.
С. К.: А за что вы попали в милицию?
А. Г.: За шорты. Вот это тоже была наша демонстрация свободы — ходить в шортах, когда это было нельзя. В Коктебеле запретили ходить в шортах. На берегу моря. Это подумать только. Это себе представить невозможно. А мы борцы, наша борьба, наша революция — это ходить в шортах. Это был, по-моему, год семидесятый. Там открыли коктейль-бары очень симпатичные, но потом их все прикрыли. И шорты запретили. Какой-то хозяин туда приехал. Тогда Владик Бахнов написал эту знаменитую песню на моих глазах: «Ах, что за чудная земля / вокруг залива Коктебля: / Колхозы, бля, совхозы, бля, природа! / Но портят эту красоту / Сюда приехавшие ту / неядцы, бля, моральные уроды!»
С. К.: Да, мы ее знали, она ушла в фольклор, и, конечно, считалось, что это Ким.
А. Г.: Нет, это Владик Бахнов. Ким написал другую: «На мужском пустынном пляже / Предположим, утром ляжет / Наш дорогой Мирзо Турсун-заде. / Он лежит и в ус не дует, / И «заде» свое «турсует», / Попивая коньячок или алиготе!» Вот это Ким, а про чудную землю — это был Владик. Появилась статья в «Культуре» о том, как разлагается Коктебель: ходят в шортах, пьют коктейли и т. д. Там же замечательно: «Пусть говорят, что я свою / Для денег написал статью, / Не верьте, бля, не верьте, бля, не верьте! / Нет, я писал не для рубля, / А потому что был я бля, / И есть я бля, и буду бля до смерти!» Мы все распевали хором человек сорок в этом Коктебеле, когда Владик это принес. Он исчез в туалет, мы еще его жену спрашиваем: «Куда Владик делся?», она говорит: «Да не знаю, куда-то пошел, в туалет, наверное». Пришел из туалета и принес эту песню. Мы стали ее все петь как сумасшедшие. Вторая песня, которую мы распевали хором человек тридцать-сорок, а то и пятьдесят, — «Мир победит, победит войну». С. К.: А это кто написал? А. Г.: Это я не знаю, это пришла, и мы все орали. Много чего там было. А также Владик меня замечательно прозвал Алка-голь. Я ходила вся в бикини, была очень худенькая, вполне себе ничего, и много выпивала, как и все, поэтому он прозвал меня Алка-голь. Веселое было поколение. Я не знаю, что же это такое было, ничего не понимаю. Все столько пережили, у всех сидели отцы. А вот когда собирались своей шарагой, шайкой-лейкой, то очень все веселились. Мы столько хохотали. Я не знаю, сколько смеха мы вообще из себя выдавили. Не выдавили, а как сказать? С. К.: Выплеснули.
А. Г.: Выплеснули. Хохотали, пили, гуляли, романились, естественно, все то же самое. Все работали, все писали много. Это же не было просто так — приехал и деньги потратил. Мы все писали, дико много печатались, сколько я статей написала, сколько книг. Все работали. Еще читали, собирались и читали там. А еще очень любили, естественно, собираться и петь Окуджаву, это уже само собой. Сейчас же ничего этого не будет, это невозможно себе даже представить, что люди, которым там было за тридцать уже, сидели и пели бесконечно Окуджаву, «Мир победит войну» и т. д.
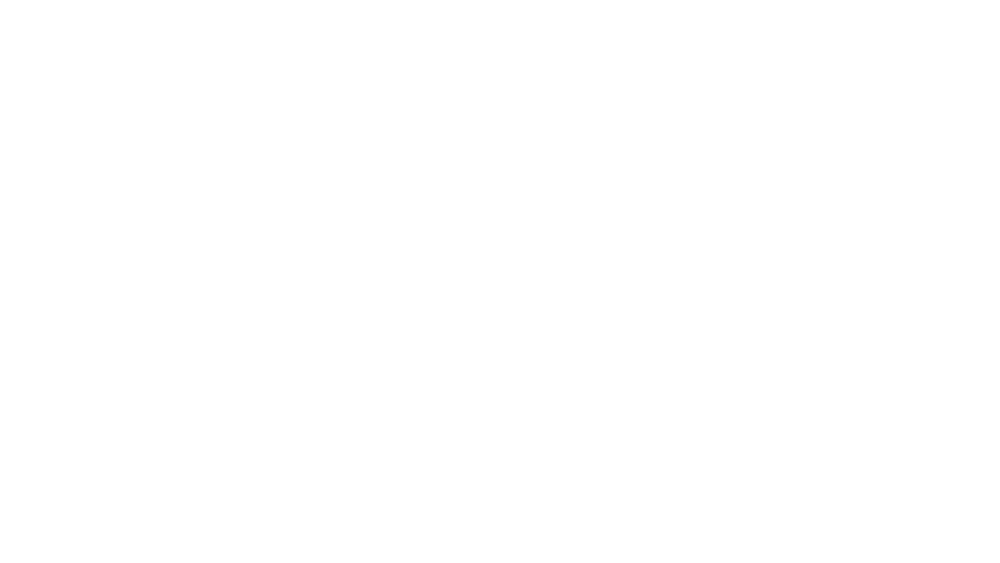
C. K.: Мы говорили в прошлый раз про семидесятые, и вы говорили, что никакой надежды на изменения не было, что всем казалось, что это навсегда. В какой момент возникло ощущение изменений?
А. Г.: Конечно, в момент начала перестройки, когда мы могли в открытую требовать возвращения Солженицына, Аксенова, когда мы смогли открыто выезжать в горячие точки, создать наш «Апрель». Появилось чувство, что мы можем. Что мы не хотим, а мы можем. И, конечно, в 1989 году, когда я была свидетелем того, как рухнула Берлинская стена — а я была в это время в Берлине.
С. К.: Расскажите, как это было.
А. Г.: Получилось так, что я была в Берлине, кажется, это была какая-то неделя советского кино, не могу сейчас вспомнить, что точно это было. Но зато я помню эту безумную радость, которую мы все испытали, когда это случилось. И меня повезли тут же на радио. Я давала интервью в тот самый день. Я поздравляла всех и сказала, что все, теперь это уже другая жизнь, это другой мир. Мы просто сейчас переходим в другой космос. Но не забудьте, сказала я, что к вам идет Восточная Германия со своим советским прошлым, со своими комплексами, со своей долгой невозможностью влиться в западную жизнь и стать участником западной жизни. И если откуда и пойдет неонацизм, то он пойдет оттуда. И я, кстати, точно все предсказала. Все нацистские организации, какие есть в Берлине, они все оттуда, до сих пор. Но в 1989 году было чувство абсолютного эйфорического счастья, абсолютного, невозможного.
С. К.: Я очень хорошо это время помню по себе, но я спрошу для более молодых читателей. Находясь в Берлине двадцать пять лет назад в 1989 году, вы не чувствовали к себе как к русской никакого негативного отношения?
А. Г.: Не то что не чувствовала — наоборот, я чувствовала совершенно другое. Я чувствовала желание пообщаться со мной, поговорить как с русской еврейкой, я подчеркиваю это, там я для них была русская еврейка, потому что я на эту тему много говорила. По-моему, это была чуть ли не первая моя поездка в Германию, потому что я долго не решалась ехать. Но когда я приехала, я увидела желание относиться к нам — и к евреям, и к русским — тоже как к неким жертвам. Я, конечно, говорю о той среде, в которой я была, я же не была на улицах, так сказать, среди народа, но в той среде, в которой я была, они считали нас тоже жертвами этого режима. И поэтому они к нам относились без всякой вражды, наоборот, как бы это наша и ваша свобода. И, конечно, они понимали, что падение Стены — это наше с ними общее счастье. И действительно, для русской интеллигенции это был праздник, абсолютное было торжество. Вот наконец-то!
Вот, пожалуй, главными были эти два момента. Вот «Апрель» — «Апрель» мы создали в 1988 году, по-моему, даже в 87-м. «Апрель» — это было большое событие. Оно сыграло колоссальную роль, и я счастлива, что я была одним из организаторов.
С. К.: Расскажите чуть подробнее про «Апрель», опять же для тех, кто не застал.
А. Г.: Ну, всем известно, а кому неизвестно, я могу напомнить, что Союз писателей был абсолютно кагэбэшной организацией. Во главе Союза стояли кагэбэшные генералы, которые тома издавали, никто их никогда не вспомнит и не узнает. Это были служивые ребята. Кстати, ни в одном союзе их не было столько, еще со времен Фадеева. Да и вообще, еще со времен Сталина пошло, что ни в одном творческом союзе не было столько арестов, не было столько глумления, как в Союзе писателей. Вот Союз кинематографистов в этом смысле был гораздо чище в своем поведении, чем Союз писателей, который был самой идеологической и идеологизированной организацией. И поэтому его руководство всегда отличалось абсолютной служивостью и желанием сделать гораздо больше, чем от них требовалось, и поэтому там была соответствующая атмосфера. И поэтому, когда зашла речь о том, чтобы создавать вот такое независимое движение писателей «Апрель», очень много народу откликнулось. По-моему, вся секция переводчиков вошла в нашу организацию — потому что среди переводчиков было очень много суперинтеллигентных людей — и поэтов, и прозаиков, которые не могли печатать свои произведения и шли в переводчики.
Родилась эта идея на пляже в Пицунде, там был писательский Дом творчества, и мы сидели, разговаривали, что надо что-то делать, что есть уже возможность как-то оторваться от Союза писателей и создать такое независимое движение. И его назвали «Апрель», потому что весна, потому что сразу пришло в голову, что должно быть что-то такое.
С. К.: Да ладно! На самом деле был же апрельский пленум, с которого началась перестройка, в честь него и назвали, мы все помним!
А. Г.: Да, точно, это был апрель, апрельский пленум. Ну, вот так у нас создалась такая небольшая команда, в которой были Толя Приставкин, Галя Дробот, Женя Евтушенко и много других вполне достойных людей. И когда мы объявили, что мы есть, то к нам стало записываться очень много людей. У нас были собрания в Доме литераторов, где мы принимали совершенно замечательные решения… И вот постепенно, постепенно из маленькой группки людей, которые на пляже решили организоваться, создался такой союз независимых писателей. И когда случилась эта громкая история с обществом «Память», нас уже было шестьсот пятьдесят человек. И самое главное, там были все имена, какие только известны, они там все были. И Искандер, и Евтушенко, я не помню, Трифонов был тогда жив или нет…
С. К.: Нет уже, Трифонов умер раньше, по-моему, даже до перестройки.
А. Г.: Ну, в общем, там все были. И Юнна Мориц, и Белла Ахмадулина, ну все, короче. Я не знаю ни одного уважаемого и достойного человека, который бы к нам не присоединился.
С. К.: Вы только что назвали Юнну Мориц, которая в последние годы привлекла большое внимание своей политической позицией. И вот я хочу спросить, как же так получилось, что люди вашего поколения, бывшие людьми одного круга в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, потом разошлись в разные стороны?
А. Г.: Мы не сильно разошлись, не сильно. Во-первых, иных уж нет, а те далече, начнем с этого, а из тех, кто остался — с этими людьми мы не разошлись. Безусловно, Юнна Мориц всегда была очень своеобразной женщиной, неожиданной, ни на кого… не то чтобы, там все были ни на кого не похожи, но она была ну очень своенравная, мало общалась с людьми. И вот то, что она повела себя так неожиданно — это не было неожиданностью вовсе, потому что она вообще неожиданная. А так я не помню, чтобы мы с кем-то разошлись: ни с Женей Поповым, ни с покойным Рощиным, ни с больным очень, но своим по-прежнему Искандером, ни с Войновичем, ни с Марком Розовским — вся наша компания, все, кто вышел из журнала «Юность», вот ни с кем мы не разошлись!
[Напоминаем, что интервью дано в январе 2015 года, за несколько лет до смерти Фазиля Искандера и скандала в русском ПЕН-центре, посреди которого оказался Евгений Попов. — С. К.]
С. К.: Давайте вернемся к девяностым. Понятно, что в те годы, несмотря на все сложности, у многих из нас было ощущение прекрасного будущего, которое ждет и нас, и страну. И теперь, когда выяснилось, что мы несколько заблуждались, и прекрасного будущего не случилось, ну или случилось не так, как хотелось бы, то теперь, конечно, все мы задаемся вопросом: что мы сделали не так? И так как именно ваше поколение в общественном мнении было назначено ответственным за перестройку, то сейчас я хочу спросить не про вас лично, а про ваше поколение: где, с вашей точки зрения, были допущены ошибки, что надо было сделать иначе, где что-то пошло не так?
А. Г.: Я считаю, что пошло не так с момента первой и главной уступки Ельцина, когда он уволил Гайдара.
С. К.: Ну, условно можно сказать, что это была ошибка Ельцина. А я говорю про поколенческую ошибку, про то, что ваше поколение могло сделать по-другому. А тут все-таки вы не могли сделать, чтобы Ельцин не увольнял Гайдара.
А. Г.: Я думаю, что да, наше поколение ответственно за перестройку, мы шли навстречу всему этому. Потому что это мы были теми, кто шел на эти стотысячные или миллионные митинги в Москве, это было что-то особенное. Это была вся наша интеллигенция, сейчас их уже почти никого нет, нас мало осталось: многие уехали, многие уже умерли, а тогда еще было ощущение молодого времени, ощущение собственной молодости, несмотря на возраст. И, конечно, было много молодежи, и от этого было ощущение будущего, была эта вера в будущее.
А потом быстро пришло разочарование. Я считаю, что самая большая беда заключалась в том, что не было какого-то единства. Так называемые демократические силы оказались бессильными в своем неумении объединиться. Поэтому начались жуткие конфликты между партиями, между демократическими движениями. Кто-то примкнул к Явлинскому, кто-то к «Демократической России», кто-то еще к кому-то. А там началась такая жесткая свистопляска, и это быстро, очень быстро сказалось. Все как-то замкнулось, все как-то разбежались. Тут прежде всего я говорю об интеллигенции, потому что, в конце концов, народ в политической жизни особенно не участвует, надо об этом не забывать. Вся эта бескровная революция 1990–1991 годов была сделана интеллигенцией — ну, мне кажется, что так. И мне кажется, что причина нашей неудачи — в том, что не было какого-то единства среди демократов, демократы не сумели объединиться, не сумели стать какой-то такой мощной площадкой, на которой воздвигалось это новое здание. Все куда-то разбежались, сразу появилось разочарование. Еще не успев ничем очароваться особенно, уже сразу разочаровались. Появилось какое-то угнетенное настроение, такое депрессивное состояние, такое «Мы не туда идем, не так идем, не так получается». И в результате не было сильных партий, вокруг которых могли бы собраться люди, не было, не получилось это. В итоге партии стали реформироваться, перевоплощаться, превращаться в свои собственные антиподы. Именно такая история с «Демвыбором»: это была партия среднего класса, потом стала партия бизнеса, партия деловых людей. Какие-то другие люди пришли, совершенно не те, не интеллектуалы, не те, чей порыв был важен в самом начале. Да, это был романтичный порыв, такое вот было ощущение, что, когда мы шли на эти митинги, каждый чувствовал себя немножко в дамках. Я помню это состояние, это состояние просто счастья. Мы вдруг поняли, что мы есть, мы можем, от нас что-то зависит — а на самом деле ничего от нас не зависело, абсолютно. Было полное разобщение, неумение дорожить теми людьми, которые действительно были искренне преданны всем этим идеям, все погрязли во всяких делах партийных объединений, партийных верхушек. В общем, очень плохо. Чисто российская история.
С. К.: Спасибо. А теперь я хотел бы вернуться от поколенческих вещей лично к вам. Ведь вы в девяностые годы вдруг оказались объектом не только культовой известности, но и объектом ненависти или сарказма. Вот помню, в газете «Завтра» была прекрасная статья Проханова, описывающая, как Церетели по просьбе Лужкова изваял изо льда фигуры деятелей демократического движения, в том числе вас. И там описано, как все тает и у вас отпадает нос или ухо. Я не думаю, что это было на самом деле, я думаю, что это была очередная прохановская фантазия. Или в той же «Завтра» была передовица под заголовком «Лужкову не бывать президентом, как Алле Гербер» — и при этом в самой статье о вас не было ни слова. Иными словами, вы превратились в такую нарицательную фигуру. Как вы думаете, почему это случилось?
А. Г.: Я всегда была типичной шестидесятницей, в «Юности» меня называли «бабушка молодежной публицистики» и все такое. У меня была репутация, но я не дразнила никого. А вот в ситуации перестройки, где-то начиная с «Апреля», а потом в ситуации девяностых я своей публицистичностью и публичностью привлекла к себе сильное внимание, в том числе негативное. Я ведь много выступала, давала бесконечные интервью, много бывала на митингах, у меня была предвыборная кампания 1993 года, когда я победила и попала в Думу — при этом у меня был смешной бюджет в тысячу долларов. Меня стало очень много, а когда человека много, это не только врагов, но даже своих иногда раздражает. А меня стало очень много, я это понимаю, я ужасно увлеченно вошла в это, мне самой было удивительно, я даже не думала, что такое со мной случится — я ведь никогда в жизни не была общественным деятелем, я ненавидела комсомол. Я много писала, но никогда не была публичной, а тут меня понесло, видно, потому, что я долго сдерживала свой общественный темперамент. Я поэтому часто думаю, что если бы я жила в 1917 году, то была бы там какой-нибудь Двойрой из местечка, которая пошла в революцию. И вот в перестройку — это было то же самое, это была та же борьба за свободу. И в девяностые было ощущение, что мы теперь… даже не то что мы пришли к власти, вот это то, что меня волновало меньше всего, а вот то, что пришло наше время — вот это было самое главное. И в этом новом времени я нашла свое новое место — это было удивительно. Я попала в Думу, ну кто бы сказал мне об этом раньше! Что я буду депутатом Верховного совета? Это же смешно! А тут я в Думе, я в партии «Демократическая Россия», бесконечные какие-то выступления, поездки, я общаюсь с новыми людьми, которые мне очень нравятся, потому что это совершенно другой уровень, особенно Егор Гайдар, конечно, он ни на кого не был похож. И вот эта моя активность, конечно, вызывала раздражение даже у кого-то из своих. Вот, например, даже в нашей партии я организовывала всякие вечера, посиделки, какие-то дни рождения — кому-то это нравилось, а кто-то наверняка думал: а чего она? Ей что, больше всех надо? Так что я не сомневаюсь, что кого-то я раздражала.
С. К.: А что вы чувствовали, когда сталкивались с каким-то неприятием в свой адрес, например, когда оказывались каким-то персонажем в колонке Проханова?
А. Г.: Вот персонаж в колонке Проханова — это меня совершенно не волновало, абсолютно. Потому что гори оно огнем, пусть они все сдохнут! А вот если я чувствовала, что среди своих есть какое-то раздражение, может, даже неприязнь, то вот это я очень переживала, мне это было очень больно, потому что я же хотела как лучше, меня же много, меня очень много оказалось — наверное, потому что с молодости у меня осталось очень много энергии, которую я долгие годы сдерживала.
С. К.: А если бы у вас была возможность заново прожить эти годы, как бы вы поступили?
А. Г.: Ты будешь смеяться, я не считаю, что все правильно сделала, но по-другому я бы поступать не стала. Ну нет у меня ощущения, что надо было делать что-то иное. Точно так же у меня нет ощущения, что я бы какие-то статьи написала по-другому. Я знаю точно, были статьи хуже, лучше, были совсем никакие — но нет статьи, под которой я бы не поставила сегодня свою подпись. Так же я считаю, что я все сделала не то чтобы правильно, это не мне судить, но я не думаю сегодня, что я бы сделала по-другому — вот как я сделала, так я и сделала. Не исключено, что нечего было переть в Думу, нечего было то, нечего было се. Многие мои друзья меня осуждали за Думу, например, твои родители. Я очень хорошо это помню, но я считала, что надо туда идти, если я могу делать что-то хорошее, что-то доброе. То же самое было позже с Общественной палатой, можно меня осудить за то, что я поперлась в эту Общественную палату. А ведь сколько я успела за это время сделать!
С. К.: А что вы? Расскажите про Общественную палату.
А. Г.: Я была два созыва подряд, там по два года, в медведевское время. Медведев, конечно, маленький человек, ну очень маленький, но что-то такое в нем все-таки есть, видно, что он из интеллигентной семьи — впрочем, не более того. Так вот, я была там в очень хорошей комиссии, которую Коля Сванидзе возглавлял, по национальным и религиозным проблемам. Так что нам удалось там сделать? Во-первых, мы много провели очень интересных социальных исследований, про самые разные аспекты национальных проблем. И были очень острые, очень важные слушания. А во-вторых, как член Общественной палаты я могла помочь многим людям. Можно было позвонить в больницу и сказать: «Я — Алла Ефимовна Гербер, я — член Общественной палаты, я убедительно вас прошу принять эту женщину, которая очень нуждается и у нее нет денег на эту операцию. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы она шла по квоте». Я старалась использовать это место, чтобы помогать людям, для больниц, для того чтобы перевести хорошего студента на бюджет и т. д. Много было таких разных моментов. И еще было важно для всех наших, что я подписывалась под нашими оппозиционными письмами как член Общественной палаты Алла Гербер. И это было очень важно для того, чтобы они получали резонанс. Но, конечно, это был такой парадокс, потому что Алла Гербер не может быть членом Общественной палаты и Коля Сванидзе не может. Но тем не менее вот мы были члены Общественной палаты и при этом участвуем во всяких оппозиционных акциях. И это производило, в общем, впечатление. Ну, а потом время поменялось, и ни о какой Общественной палате речи уже и не было. Но я не жалею о том, что я там была, потому что были добрые дела, а значит, это было правильно. Я не жалею о Думе, потому что это была наша фракция, это был «Демвыбор», это было совершенно все другое, та Дума, которая была тогда и которую мы видим последние десять с лишним лет. И, естественно, я не жалею о своем фонде «Холокост». Я жалею только об одном: что я фактически с какого-то момента перестала писать.
С. К.: Это в большой степени тоже поколенческая история. После перестройки очень мало кто продолжил писать, особенно из журналистов.
А. Г.: Да, вот что-то случилось, произошел конфликт с печатным словом. Вот это моя трагедия, потому что Бог дал мне умение писать, а я в какой-то момент как-то пренебрегла тем, чем пренебрегать нельзя. И вот кончились мои отношения с печатным словом. Вот кончились, и все. Так, как бывает с любовью. Это совершенно непостижимо. Потому что меня засосало это время, я вся ему отдалась, и мне не хватало сил на то, чтобы писать. Нет, я еще писала, я еще довольно долго писала статьи, но чем дальше, тем меньше и меньше. Может, потому что в советское время главное было — сказать людям правду. А тут показалось, что все уже сказали, что тут говорить-то? Вот так я и перестала писать, и для меня это очень трагическая история.
А. Г.: Конечно, в момент начала перестройки, когда мы могли в открытую требовать возвращения Солженицына, Аксенова, когда мы смогли открыто выезжать в горячие точки, создать наш «Апрель». Появилось чувство, что мы можем. Что мы не хотим, а мы можем. И, конечно, в 1989 году, когда я была свидетелем того, как рухнула Берлинская стена — а я была в это время в Берлине.
С. К.: Расскажите, как это было.
А. Г.: Получилось так, что я была в Берлине, кажется, это была какая-то неделя советского кино, не могу сейчас вспомнить, что точно это было. Но зато я помню эту безумную радость, которую мы все испытали, когда это случилось. И меня повезли тут же на радио. Я давала интервью в тот самый день. Я поздравляла всех и сказала, что все, теперь это уже другая жизнь, это другой мир. Мы просто сейчас переходим в другой космос. Но не забудьте, сказала я, что к вам идет Восточная Германия со своим советским прошлым, со своими комплексами, со своей долгой невозможностью влиться в западную жизнь и стать участником западной жизни. И если откуда и пойдет неонацизм, то он пойдет оттуда. И я, кстати, точно все предсказала. Все нацистские организации, какие есть в Берлине, они все оттуда, до сих пор. Но в 1989 году было чувство абсолютного эйфорического счастья, абсолютного, невозможного.
С. К.: Я очень хорошо это время помню по себе, но я спрошу для более молодых читателей. Находясь в Берлине двадцать пять лет назад в 1989 году, вы не чувствовали к себе как к русской никакого негативного отношения?
А. Г.: Не то что не чувствовала — наоборот, я чувствовала совершенно другое. Я чувствовала желание пообщаться со мной, поговорить как с русской еврейкой, я подчеркиваю это, там я для них была русская еврейка, потому что я на эту тему много говорила. По-моему, это была чуть ли не первая моя поездка в Германию, потому что я долго не решалась ехать. Но когда я приехала, я увидела желание относиться к нам — и к евреям, и к русским — тоже как к неким жертвам. Я, конечно, говорю о той среде, в которой я была, я же не была на улицах, так сказать, среди народа, но в той среде, в которой я была, они считали нас тоже жертвами этого режима. И поэтому они к нам относились без всякой вражды, наоборот, как бы это наша и ваша свобода. И, конечно, они понимали, что падение Стены — это наше с ними общее счастье. И действительно, для русской интеллигенции это был праздник, абсолютное было торжество. Вот наконец-то!
Вот, пожалуй, главными были эти два момента. Вот «Апрель» — «Апрель» мы создали в 1988 году, по-моему, даже в 87-м. «Апрель» — это было большое событие. Оно сыграло колоссальную роль, и я счастлива, что я была одним из организаторов.
С. К.: Расскажите чуть подробнее про «Апрель», опять же для тех, кто не застал.
А. Г.: Ну, всем известно, а кому неизвестно, я могу напомнить, что Союз писателей был абсолютно кагэбэшной организацией. Во главе Союза стояли кагэбэшные генералы, которые тома издавали, никто их никогда не вспомнит и не узнает. Это были служивые ребята. Кстати, ни в одном союзе их не было столько, еще со времен Фадеева. Да и вообще, еще со времен Сталина пошло, что ни в одном творческом союзе не было столько арестов, не было столько глумления, как в Союзе писателей. Вот Союз кинематографистов в этом смысле был гораздо чище в своем поведении, чем Союз писателей, который был самой идеологической и идеологизированной организацией. И поэтому его руководство всегда отличалось абсолютной служивостью и желанием сделать гораздо больше, чем от них требовалось, и поэтому там была соответствующая атмосфера. И поэтому, когда зашла речь о том, чтобы создавать вот такое независимое движение писателей «Апрель», очень много народу откликнулось. По-моему, вся секция переводчиков вошла в нашу организацию — потому что среди переводчиков было очень много суперинтеллигентных людей — и поэтов, и прозаиков, которые не могли печатать свои произведения и шли в переводчики.
Родилась эта идея на пляже в Пицунде, там был писательский Дом творчества, и мы сидели, разговаривали, что надо что-то делать, что есть уже возможность как-то оторваться от Союза писателей и создать такое независимое движение. И его назвали «Апрель», потому что весна, потому что сразу пришло в голову, что должно быть что-то такое.
С. К.: Да ладно! На самом деле был же апрельский пленум, с которого началась перестройка, в честь него и назвали, мы все помним!
А. Г.: Да, точно, это был апрель, апрельский пленум. Ну, вот так у нас создалась такая небольшая команда, в которой были Толя Приставкин, Галя Дробот, Женя Евтушенко и много других вполне достойных людей. И когда мы объявили, что мы есть, то к нам стало записываться очень много людей. У нас были собрания в Доме литераторов, где мы принимали совершенно замечательные решения… И вот постепенно, постепенно из маленькой группки людей, которые на пляже решили организоваться, создался такой союз независимых писателей. И когда случилась эта громкая история с обществом «Память», нас уже было шестьсот пятьдесят человек. И самое главное, там были все имена, какие только известны, они там все были. И Искандер, и Евтушенко, я не помню, Трифонов был тогда жив или нет…
С. К.: Нет уже, Трифонов умер раньше, по-моему, даже до перестройки.
А. Г.: Ну, в общем, там все были. И Юнна Мориц, и Белла Ахмадулина, ну все, короче. Я не знаю ни одного уважаемого и достойного человека, который бы к нам не присоединился.
С. К.: Вы только что назвали Юнну Мориц, которая в последние годы привлекла большое внимание своей политической позицией. И вот я хочу спросить, как же так получилось, что люди вашего поколения, бывшие людьми одного круга в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, потом разошлись в разные стороны?
А. Г.: Мы не сильно разошлись, не сильно. Во-первых, иных уж нет, а те далече, начнем с этого, а из тех, кто остался — с этими людьми мы не разошлись. Безусловно, Юнна Мориц всегда была очень своеобразной женщиной, неожиданной, ни на кого… не то чтобы, там все были ни на кого не похожи, но она была ну очень своенравная, мало общалась с людьми. И вот то, что она повела себя так неожиданно — это не было неожиданностью вовсе, потому что она вообще неожиданная. А так я не помню, чтобы мы с кем-то разошлись: ни с Женей Поповым, ни с покойным Рощиным, ни с больным очень, но своим по-прежнему Искандером, ни с Войновичем, ни с Марком Розовским — вся наша компания, все, кто вышел из журнала «Юность», вот ни с кем мы не разошлись!
[Напоминаем, что интервью дано в январе 2015 года, за несколько лет до смерти Фазиля Искандера и скандала в русском ПЕН-центре, посреди которого оказался Евгений Попов. — С. К.]
С. К.: Давайте вернемся к девяностым. Понятно, что в те годы, несмотря на все сложности, у многих из нас было ощущение прекрасного будущего, которое ждет и нас, и страну. И теперь, когда выяснилось, что мы несколько заблуждались, и прекрасного будущего не случилось, ну или случилось не так, как хотелось бы, то теперь, конечно, все мы задаемся вопросом: что мы сделали не так? И так как именно ваше поколение в общественном мнении было назначено ответственным за перестройку, то сейчас я хочу спросить не про вас лично, а про ваше поколение: где, с вашей точки зрения, были допущены ошибки, что надо было сделать иначе, где что-то пошло не так?
А. Г.: Я считаю, что пошло не так с момента первой и главной уступки Ельцина, когда он уволил Гайдара.
С. К.: Ну, условно можно сказать, что это была ошибка Ельцина. А я говорю про поколенческую ошибку, про то, что ваше поколение могло сделать по-другому. А тут все-таки вы не могли сделать, чтобы Ельцин не увольнял Гайдара.
А. Г.: Я думаю, что да, наше поколение ответственно за перестройку, мы шли навстречу всему этому. Потому что это мы были теми, кто шел на эти стотысячные или миллионные митинги в Москве, это было что-то особенное. Это была вся наша интеллигенция, сейчас их уже почти никого нет, нас мало осталось: многие уехали, многие уже умерли, а тогда еще было ощущение молодого времени, ощущение собственной молодости, несмотря на возраст. И, конечно, было много молодежи, и от этого было ощущение будущего, была эта вера в будущее.
А потом быстро пришло разочарование. Я считаю, что самая большая беда заключалась в том, что не было какого-то единства. Так называемые демократические силы оказались бессильными в своем неумении объединиться. Поэтому начались жуткие конфликты между партиями, между демократическими движениями. Кто-то примкнул к Явлинскому, кто-то к «Демократической России», кто-то еще к кому-то. А там началась такая жесткая свистопляска, и это быстро, очень быстро сказалось. Все как-то замкнулось, все как-то разбежались. Тут прежде всего я говорю об интеллигенции, потому что, в конце концов, народ в политической жизни особенно не участвует, надо об этом не забывать. Вся эта бескровная революция 1990–1991 годов была сделана интеллигенцией — ну, мне кажется, что так. И мне кажется, что причина нашей неудачи — в том, что не было какого-то единства среди демократов, демократы не сумели объединиться, не сумели стать какой-то такой мощной площадкой, на которой воздвигалось это новое здание. Все куда-то разбежались, сразу появилось разочарование. Еще не успев ничем очароваться особенно, уже сразу разочаровались. Появилось какое-то угнетенное настроение, такое депрессивное состояние, такое «Мы не туда идем, не так идем, не так получается». И в результате не было сильных партий, вокруг которых могли бы собраться люди, не было, не получилось это. В итоге партии стали реформироваться, перевоплощаться, превращаться в свои собственные антиподы. Именно такая история с «Демвыбором»: это была партия среднего класса, потом стала партия бизнеса, партия деловых людей. Какие-то другие люди пришли, совершенно не те, не интеллектуалы, не те, чей порыв был важен в самом начале. Да, это был романтичный порыв, такое вот было ощущение, что, когда мы шли на эти митинги, каждый чувствовал себя немножко в дамках. Я помню это состояние, это состояние просто счастья. Мы вдруг поняли, что мы есть, мы можем, от нас что-то зависит — а на самом деле ничего от нас не зависело, абсолютно. Было полное разобщение, неумение дорожить теми людьми, которые действительно были искренне преданны всем этим идеям, все погрязли во всяких делах партийных объединений, партийных верхушек. В общем, очень плохо. Чисто российская история.
С. К.: Спасибо. А теперь я хотел бы вернуться от поколенческих вещей лично к вам. Ведь вы в девяностые годы вдруг оказались объектом не только культовой известности, но и объектом ненависти или сарказма. Вот помню, в газете «Завтра» была прекрасная статья Проханова, описывающая, как Церетели по просьбе Лужкова изваял изо льда фигуры деятелей демократического движения, в том числе вас. И там описано, как все тает и у вас отпадает нос или ухо. Я не думаю, что это было на самом деле, я думаю, что это была очередная прохановская фантазия. Или в той же «Завтра» была передовица под заголовком «Лужкову не бывать президентом, как Алле Гербер» — и при этом в самой статье о вас не было ни слова. Иными словами, вы превратились в такую нарицательную фигуру. Как вы думаете, почему это случилось?
А. Г.: Я всегда была типичной шестидесятницей, в «Юности» меня называли «бабушка молодежной публицистики» и все такое. У меня была репутация, но я не дразнила никого. А вот в ситуации перестройки, где-то начиная с «Апреля», а потом в ситуации девяностых я своей публицистичностью и публичностью привлекла к себе сильное внимание, в том числе негативное. Я ведь много выступала, давала бесконечные интервью, много бывала на митингах, у меня была предвыборная кампания 1993 года, когда я победила и попала в Думу — при этом у меня был смешной бюджет в тысячу долларов. Меня стало очень много, а когда человека много, это не только врагов, но даже своих иногда раздражает. А меня стало очень много, я это понимаю, я ужасно увлеченно вошла в это, мне самой было удивительно, я даже не думала, что такое со мной случится — я ведь никогда в жизни не была общественным деятелем, я ненавидела комсомол. Я много писала, но никогда не была публичной, а тут меня понесло, видно, потому, что я долго сдерживала свой общественный темперамент. Я поэтому часто думаю, что если бы я жила в 1917 году, то была бы там какой-нибудь Двойрой из местечка, которая пошла в революцию. И вот в перестройку — это было то же самое, это была та же борьба за свободу. И в девяностые было ощущение, что мы теперь… даже не то что мы пришли к власти, вот это то, что меня волновало меньше всего, а вот то, что пришло наше время — вот это было самое главное. И в этом новом времени я нашла свое новое место — это было удивительно. Я попала в Думу, ну кто бы сказал мне об этом раньше! Что я буду депутатом Верховного совета? Это же смешно! А тут я в Думе, я в партии «Демократическая Россия», бесконечные какие-то выступления, поездки, я общаюсь с новыми людьми, которые мне очень нравятся, потому что это совершенно другой уровень, особенно Егор Гайдар, конечно, он ни на кого не был похож. И вот эта моя активность, конечно, вызывала раздражение даже у кого-то из своих. Вот, например, даже в нашей партии я организовывала всякие вечера, посиделки, какие-то дни рождения — кому-то это нравилось, а кто-то наверняка думал: а чего она? Ей что, больше всех надо? Так что я не сомневаюсь, что кого-то я раздражала.
С. К.: А что вы чувствовали, когда сталкивались с каким-то неприятием в свой адрес, например, когда оказывались каким-то персонажем в колонке Проханова?
А. Г.: Вот персонаж в колонке Проханова — это меня совершенно не волновало, абсолютно. Потому что гори оно огнем, пусть они все сдохнут! А вот если я чувствовала, что среди своих есть какое-то раздражение, может, даже неприязнь, то вот это я очень переживала, мне это было очень больно, потому что я же хотела как лучше, меня же много, меня очень много оказалось — наверное, потому что с молодости у меня осталось очень много энергии, которую я долгие годы сдерживала.
С. К.: А если бы у вас была возможность заново прожить эти годы, как бы вы поступили?
А. Г.: Ты будешь смеяться, я не считаю, что все правильно сделала, но по-другому я бы поступать не стала. Ну нет у меня ощущения, что надо было делать что-то иное. Точно так же у меня нет ощущения, что я бы какие-то статьи написала по-другому. Я знаю точно, были статьи хуже, лучше, были совсем никакие — но нет статьи, под которой я бы не поставила сегодня свою подпись. Так же я считаю, что я все сделала не то чтобы правильно, это не мне судить, но я не думаю сегодня, что я бы сделала по-другому — вот как я сделала, так я и сделала. Не исключено, что нечего было переть в Думу, нечего было то, нечего было се. Многие мои друзья меня осуждали за Думу, например, твои родители. Я очень хорошо это помню, но я считала, что надо туда идти, если я могу делать что-то хорошее, что-то доброе. То же самое было позже с Общественной палатой, можно меня осудить за то, что я поперлась в эту Общественную палату. А ведь сколько я успела за это время сделать!
С. К.: А что вы? Расскажите про Общественную палату.
А. Г.: Я была два созыва подряд, там по два года, в медведевское время. Медведев, конечно, маленький человек, ну очень маленький, но что-то такое в нем все-таки есть, видно, что он из интеллигентной семьи — впрочем, не более того. Так вот, я была там в очень хорошей комиссии, которую Коля Сванидзе возглавлял, по национальным и религиозным проблемам. Так что нам удалось там сделать? Во-первых, мы много провели очень интересных социальных исследований, про самые разные аспекты национальных проблем. И были очень острые, очень важные слушания. А во-вторых, как член Общественной палаты я могла помочь многим людям. Можно было позвонить в больницу и сказать: «Я — Алла Ефимовна Гербер, я — член Общественной палаты, я убедительно вас прошу принять эту женщину, которая очень нуждается и у нее нет денег на эту операцию. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы она шла по квоте». Я старалась использовать это место, чтобы помогать людям, для больниц, для того чтобы перевести хорошего студента на бюджет и т. д. Много было таких разных моментов. И еще было важно для всех наших, что я подписывалась под нашими оппозиционными письмами как член Общественной палаты Алла Гербер. И это было очень важно для того, чтобы они получали резонанс. Но, конечно, это был такой парадокс, потому что Алла Гербер не может быть членом Общественной палаты и Коля Сванидзе не может. Но тем не менее вот мы были члены Общественной палаты и при этом участвуем во всяких оппозиционных акциях. И это производило, в общем, впечатление. Ну, а потом время поменялось, и ни о какой Общественной палате речи уже и не было. Но я не жалею о том, что я там была, потому что были добрые дела, а значит, это было правильно. Я не жалею о Думе, потому что это была наша фракция, это был «Демвыбор», это было совершенно все другое, та Дума, которая была тогда и которую мы видим последние десять с лишним лет. И, естественно, я не жалею о своем фонде «Холокост». Я жалею только об одном: что я фактически с какого-то момента перестала писать.
С. К.: Это в большой степени тоже поколенческая история. После перестройки очень мало кто продолжил писать, особенно из журналистов.
А. Г.: Да, вот что-то случилось, произошел конфликт с печатным словом. Вот это моя трагедия, потому что Бог дал мне умение писать, а я в какой-то момент как-то пренебрегла тем, чем пренебрегать нельзя. И вот кончились мои отношения с печатным словом. Вот кончились, и все. Так, как бывает с любовью. Это совершенно непостижимо. Потому что меня засосало это время, я вся ему отдалась, и мне не хватало сил на то, чтобы писать. Нет, я еще писала, я еще довольно долго писала статьи, но чем дальше, тем меньше и меньше. Может, потому что в советское время главное было — сказать людям правду. А тут показалось, что все уже сказали, что тут говорить-то? Вот так я и перестала писать, и для меня это очень трагическая история.
В заключительной части нашего интервью мы поговорим с Аллой Гербер про ее участие в еврейской жизни. Станислав Куняев дает пощечину за слово «жидовка», общество «Память» нападает на «Апрель», профессиональные «холокостники» делают свой гешефт на памяти о Катастрофе — и много других интересных тем.
Узнать больше






